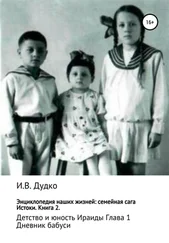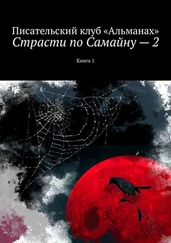1 ...7 8 9 11 12 13 ...43 А солнце уже садилось, но было ещё тепло, летний ветер и кузнечики в траве. Муж с женой, уставшие, оставались ночевать тут же, чтобы с утра, пока прохладно, продолжить работу.
Наутро, ещё и первый ряд не скосили, как слышался голос: «Эге-гей, работнички, не уморитесь смотрите!» – это Марья собрала обед для сына с невесткой и отправила Прокопьича в поле.
На Успенье, в аккурат после Яблочного Спаса, случился у Семена Прокопьича день рождения.
С самого утра Марья с Шурочкой хлопотали по дому: в большой комнате ставили столы буквой П, вдоль столов разместили лавки. На белую скатерть стали раскладывать угощения: аккуратными стопками толстые блины и миски со сметаной, молодую картошку с укропом и в сливочном масле, из печки вытаскивали большими кусками тушеное мясо, разливали в глиняные миски свежий мёд, а напоследок Марья шла в погреб и выносила холодец.
Гости собирались к полудню: городские как выспятся и доедут, деревенские – как управятся по хозяйству. Приехали сыновья и дочери с женами, мужьями и детьми, а старший, Фёдор, двух правнуков Прокопьичу привез. Так больше двадцати человек и набралось.
Заходили соседи и просто знакомые. Сядут за стол, выпьют за здоровье Прокопьича и начинают прощаться: «Мы к тебе уж потом, у вас тут дело семейное».
Поздравляют Прокопьича дети, а Гриша как улыбнется хитро, да как начнет:
«Ветер занавесочку
Тихонько шеве —шевелит…».
За ним сестры подпевают:
«А милый мой под окошечком
С другою говорит…».
Наконец, подтягивается басовитый голос братьев:
«Входит милый в комнату,
Закручивает он усы,
Сымает он да фуражечку,
Сам смотрит на часы…».
Так дружно пели, что даже дети оставили свои игры и стали слушать.
Провожали гостей поздно вечером. Стоя на крыльце, раздавал Прокопьич подарки и жутко гордился, что после войны и солью было поделиться жалко, а теперь вот хоть целый мешок муки отдать можно. Тому шмат сала положит, этому – бочонок с медом или банку топленого масла. Дочкам по мешку шерсти выделил.
– Это ж мне всю зиму прясть! – смеялась младшая.
– Пряди-пряди, а то ж батя приедет по весне и проверит, – отвечала старшая.
Ночью, засыпая, Гриша шептал Шурочке: «Вот такая у нас с тобой семья…».
То была Шурочкина молодость, когда и вода была слаще, и хлеб вкуснее.
Из детства у Илюши сохранились запахи: изба пахла вытопленной печью, мать – молоком и ветром, отец – баней и влажным деревом, а дед… дед пах воском и тёплым медом.
Семен Прокопьевич остался в памяти внука целой эпохой, когда можно было взяться за крепкую руку, шагать по большой незнакомой улице и ничего не бояться.
Особенно Илья любил разговаривать с дедом, когда тот сидел на лавке под большой березой у оврага и плел корзины из лозы. У старика была седая голова и белая борода до середины шеи, а глаза голубые-голубые, озорные такие и добрые.
– Видишь, Илюша, эту березу? Листьев много и ветки большие, а всё почему? Потому что корни сильные. Ты – как вон та веточка наверху, только расти начинаешь, а не было бы у тебя такого ствола и корешков, был бы хиленьким, будто былинка на ветру, – рассуждал дед, – Ты березку-то береги, внучок, память это.
Помнил Илья, как отправились они к тетке Нюре попариться в бане. Пять километров до соседней деревни прошли пешком по лесу, уморились, а как березовым веничком их отходил теткин муж, как напились они чаю липового, так до позднего вечера сидели частушки пели.
Оставляли Прокопьича с внуком ночевать – не согласился, тогда запрягли лошадь и поехали провожать гостей.
Скрипит телега, глухо стучат копыта по земле, а с лугов душисто пахнет разнотравьем. Ночное небо синее-синее, а впереди – полная луна, да так низко висит, что ещё чуть-чуть и зацепится за ветки, да упадет на землю.
Не забыть такое.
А ещё как-то Прокопьича вместе с соседом, дедом Афанасом, вызвали в военкомат, пенсию назначать, Илья увязался следом. Хоть соседи и ровесниками были, да дед Афанас всё хворым и беспамятным прикидывался, он и в колхозе-то пастухом еле-еле работал.
– Сколько, дедушка, Вам лет? – спрашивали Афанаса в военкомате.
– А кто ж их считать-то будет? Помню только, что на Николу Зимнего родился, а там уж много годов прошло.
– Дедушка, а Вам сколько? – теперь уже Прокопьичу вопрос.
– Так с 1893 года я. Ещё в первую мировую воевал, а на последнюю войну не пустили, сказали, что старый уже.
Да так бодро Илюшин дед вел беседу, что Афанасу, как немощному, пенсию назначили, а Прокопьичу велели трудиться в колхозе, мол, дед при полной силе ещё.
Читать дальше