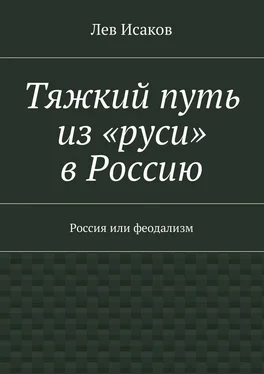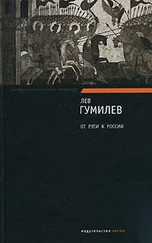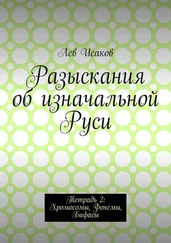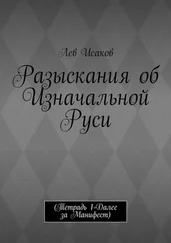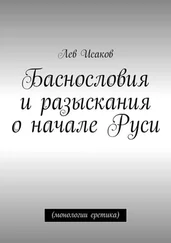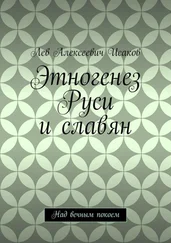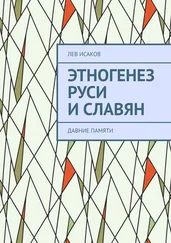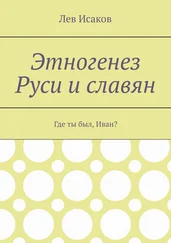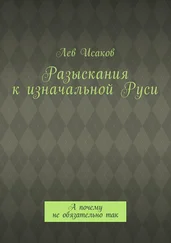Т.о. при отсутствии собственной историографии периода она объективно документирована через внешнее внимание стороннего документа; и также во внешнеполитическом и внешнеэкономическом образе то врага, то союзника, то купца-контрагента. Естественно, это демонстрирует лишь какие-то итоговые результаты внутренних процессов оформления гиперсоциума; не динамику в целом, а мгновенный статистический снимок процесса, достаточно независимый в отношении всей полноты картины, как по его инаковой внешности, так и по специфической избирательности к интересам стороннего субъекта, которые меняются под собственную ситуацию его положения, как и к меркам его ценностных ориентаций в мировоззренческом и идеологическом смысле, модифицируются к континууму его понятий т.е.искаженно – но других источников для описания социально-политических процессов становления древнерусского социума из народности в государственность с политической стороны просто нет.
Да, выходя за рамки археологической анонимности и до момента сложения устойчивой историографической традиции исследователь начинает «скакать по верхам», и легкость слога и теоретизирования от того необыкновенная, особенно для рознящих эпизоды пустот, становящихся подлинным полем боя конкурирующих текстов; вполне закономерно охватывающая своим запалом и начальные периоды складывающейся историографии, которые поражены аберрациями улавливаемых воспоминаний – тем более что в момент возникновения письменность преимущественно полагается профанно-практическим средством хозяйственного оборота, невозможным к использованию фиксации священных преданий и генеалогий; и письменные акты минойских дворцов дают значительно меньше для политической истории Крито-Минойской цивилизации, чем устная традиция о Проклятие Дома Атридов, а сохранившаяся чисто устная традиция священных генеалогий Полинезии даёт куда как более основательные опоры самым неординарным построениям Тура Хейердала. Т.е. перманентная полемичность дискурса в данной области истории не привнесённое спекулятивное, а внутридисциплинарное и академическое качество, обусловленное самим характером наличных на начало 3 тысячелетия источников, круг которых растёт очень медленно и непредсказуемым образом; и преимущественно в виде массового материала и/или совершенства методов интерпретации, расширяющих круг исторических свидетельств и глубину проникновения в информативное поле памятника. Здесь возникает очень любопытная коллизия, когда длительное время новый теоретический материал возникает не из нового факта, а на поле наличных теоретических же посылок т.е. как бы на фактологической пустоте, что в общем не свойственно истории, оформлявшейся в идеале как чисто описательная наука – литературное, философское, логическое домысливание с самого начала воспринималось только как средство заполнения лакун, и в восхождении с полагаемым освобождением от него. К естественному требованию соответствия всему наличному фактологическому материалу в этом случае добавляется ещё одно – охват всей полноты наличного существующего теоретического поля, верификация допустимости в соотношении со всеми его агентами, которые либо принимают новое допущение, либо входят в него, либо снимаются/модифицируются им. Новая симфония возникает только из камертонности целому. На этом очень скользком пути только полное осознание историком, что его область профессиональных интересов лежит исключительно в сфере бытийственности, а не в возможности или должествовании, и сохраняет его в дисциплинарной чистоте постижения «всего действительного», которое должно стать «разумным».
Но даже отсутствие других источников, кроме внешне-отражённых, не снимает требования ответа на вопрос о степени глубины соответствия отражённого в весьма кривом зеркале к оригиналу – ведь нередко именно в расхождениях мнений на степень соответствия от полного неприятия до дословного приятия и вскипают зачастую наиболее яростные дискуссии, и довольно часто без итоговых научных результатов. Как и насколько внешние свидетельства политики и товарооборота говорят о кристаллизующих центрах возникающей государственности сверх констатации факта её наличия – в конце концов есть этно-социальные общности, вполне отчётливо присутствующие в истории и политике, но обходившиеся без государственности: например курды, или исторические согдийцы?
Читать дальше