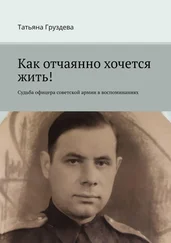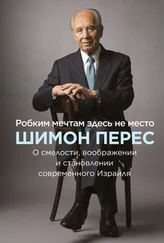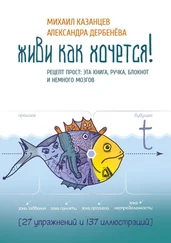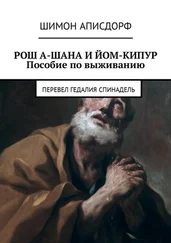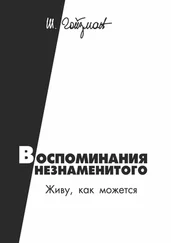Потом папа получил на заводе направление на постой к неким Селивановым. Освободили нам темную комнату, в углу которой висел портрет страшного человека с выпученными глазами, а под портретом на трех проволочках висела плошка с огонечком. Мама шепотом поправила меня, сказав, что это не портрет, а икона, и нарисован на ней бог. Старая страшная бабка как-то вечером подошла ко мне и стала щупать голову. На мамин вопрос, что она ищет, бабка ответила, что впервые видит живых евреев и ищет на моей голове рожки, так как ей сказали, что все евреи – антихристы. Вскоре хозяева отказали нам в жилье: немцы де близко, возьмут Балашов и расстреляют всех, кто давал приют евреям – так было написано в листовках, которые разбрасывали немцы над городом с самолета. Именно тогда я впервые спросил маму: «А кто это евреи?» Я ненадолго успокоился, получив ответ, что евреи – это и мама, и папа, и Рая. Вот только не ясно было: если рогов у нас нет, то, как хозяева узнали, что мы евреи?
А папа нашел вскоре другую комнату в избушке какой-то Ольги Ивановны. Работала она на железной дороге проводником и поэтому никогда не бывала дома. В памяти от этой квартиры остался только холод, хотя печку-буржуйку, сделанную из чугунка, топили непрерывно. Но тепла она не давала, и стены нашей комнаты все время были покрыты ледяной коркой.
Впрочем, вскоре и Ольга Ивановна узнала, что мы евреи. И снова папа ставит на самодельные санки деревянный снарядный ящик, меня заматывают в какие-то тряпки и сажают на ящик верхом, и мы снова едем. Теперь на квартиру к какой-то Нюрке, у которой отец был на фронте, а мать умерла. Нюрке было лет тринадцать, и она, как сказал папа, наверно, еще не знала, кто такие евреи.
Нюркина квартира была далеко от центра города – на станции Хопер, которая являлась пригородным поселком Балашова. Сам Балашов расположен на плоском взгорье, а поселок станции Хопер, где мы теперь обосновались, – на пологом склоне поймы реки Хопер. Город со станцией был связан единственной дорогой, проходившей по самой кромке глубокого обрывистого оврага, по дну которого веснами бушевал бешеный ручей. Наша Мало-Коммунистическая улица лежала под горой и поэтому имела верхний порядок домов, стоявших на пригорке, и нижний порядок домов, окна которых выходили прямо на проезжую часть. Вся улица, разумеется, была застроена одноэтажными домишками, но из-за склона получалось так, что со стороны улицы был один этаж, а со двора – полтора. Вход в наше жилье был со двора. Это был полуподвал с подоконниками на одном уровне с землей. И это мне очень нравилось. Маленькие сени и одна комната, в которой господствовала большая «русская» печь. Эта печь разделяла комнату на три жилые части: с одного бока печи жили мы, с другого бока печи – шорник с нашего же завода по фамилии Сапрыкин с женой. А перед фасадом печки был «зал» с обеденным столом, придвинутым вплотную к простенку между входной дверью и окном. За этим столом по очереди обедала наша семья, затем Сапрыкины. А Нюрка жила на печке, а обедала с нами.
Папа вскоре сбил из толстых досок крепкую скамейку и две кровати под странным названием «топчан». На одном топчане спал он с мамой, а на другом – Рая. А я же спал на родном зеленом снарядном ящике с двумя висячими железными ручками по бокам. Этот же ящик служил нам и сундуком для хранения всяких пожитков и скудных запасов еды. А еще папа сделал из патронной гильзы керосиновый светильник под названием «коптилка», т. к. у Нюрки керосиновая лампа не работала – стеклянный пузырь давно уже лопнул.
Зима 1941 – 1942 года выдалась снежной и лютой, а мы, надеявшиеся на скорый конец войны, не имели ни зимней одежды, ни подходящей обуви. Всю эту зиму я просидел дома, не выходя на улицу. Нюрке от матери в наследство осталась старинная швейная машина фирмы «Зингер», черная, расписанная затейливым золотым узором в виде завитушек, и мама на этой машине сшила мне матерчатые бурки с ватной прокладкой, чтоб я хотя бы не мерз на холодном полу. А чтоб не одурел от безделья, мама записала меня в библиотеку и приносила мне домой тоненькие, зачитанные, в самодельных твердых переплетах книжечки из серии «Книга за книгой». В каждой книжке был один маленький рассказ или, как я позже узнал, отрывок из романа. Так я еще до школы познакомился с рассказами Гаршина, Григоровича, Куприна, Льва Толстого, Гюго, Н. Островского. Первой моей книжкой был рассказ Гаршина «Сигнал», в котором путевой обходчик ценой своей жизни предотвращает аварию пассажирского поезда. Он снял с себя белую рубаху, перерезал вены, и окрасил рубаху собственной кровью, в цвет красного сигнального флага, и, истекая кровью, умер на рельсах только тогда, когда убедился, что поезд успел остановиться, и аварии уже не будет. А как я рыдал, читая «Гуттаперчевого мальчика» и «Аленький цветочек»!?
Читать дальше
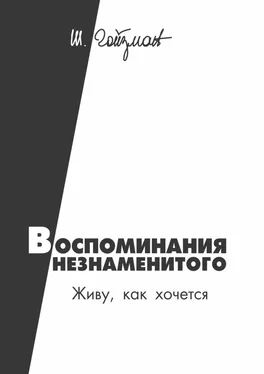
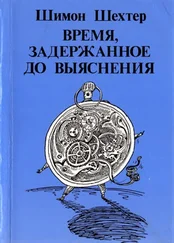
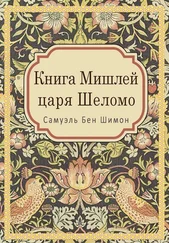
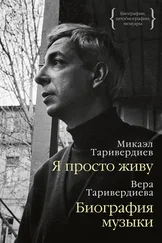
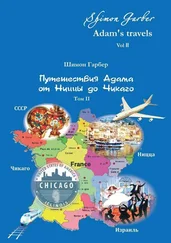

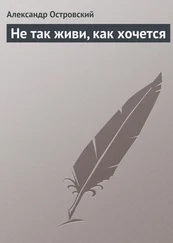
![Шимон Перес - Робким мечтам здесь не место [litres]](/books/390299/shimon-peres-robkim-mechtam-zdes-ne-mesto-litres-thumb.webp)