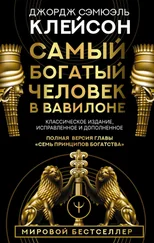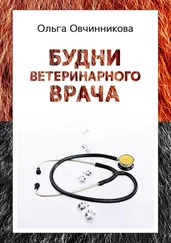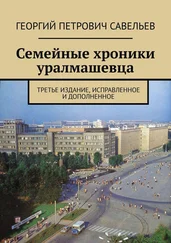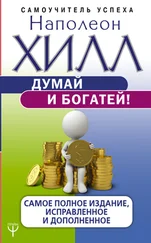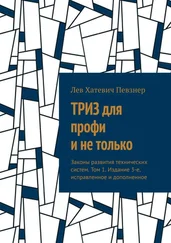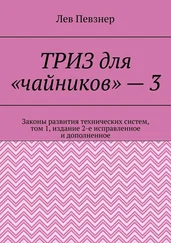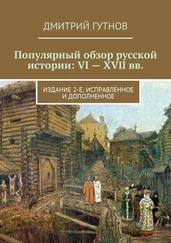4. Познание современности означает познание субъективности. И напротив, разум как индивидуальное бытие сознания доступен для исследований только в контексте современности. С этой точки зрения субъективность есть интерсубъективность, невозможная как без «Другого», так и без «Я». Само исследование субъективности оказывается реконструкцией сложного ментального портрета внутреннего мира человека как продукта взаимодействия «Я» и «Другого». «Я» – это субъективность, отличающая себя от объективности. При осознании предмета на первом месте стоит «Я», а в сознании предмета на передний план выходит уже не «Я», а его со-в-местность бытия с «Другим».
Сознание акцентирует или выводит на первое место в системе ценностей внешний мир, а осознание – самобытие личности. Таким образом, мы имеем дело с двумя конфигураторами. Первый организует внутренний мир как определенное внутриположенное пространство, становится его точкой отсчета и может обозначаться как «Я». Второй же конфигуратор оказывается самим миром в качестве жизненного мира «Я». Причем «Я» и «Другое» – это два фокуса одного жизненного мира, одной и той же данности с двух точек зрения, так сказать, «изнутри» и «снаружи».
Что же касается бессознательного, то это то же самое мышление, но только в аспекте его пассивности и адаптации. Познание бессознательного есть познание внешнего культурного и «за-культурного» мира как его источника.
Как способ организации, «чистое сознание» Э. Гуссерля становится «языковой игрой» Л. Витгенштейна. Отсюда – первая предметность сознания как нарратив, который выступает формой общественной жизни. Это воплощенный в индивидуальном сознании практический синтез общества с индивидом путем языковой коммуникации. Вторая же предметность – это опыт переживания «Я» как данности человека самому себе, придающей внешнему опыту «мой» смысл, самосознание и самобытие.
Сознание и рациональность становятся формами и способами социального мышления. В этом плане сознание и рациональность различаются по демографическим (половым и возрастным), бытовым и профессиональным признакам. В этом же ряду – сословно-групповое рациональное сознание (академическое, чиновно-бюрократическое, «бомжовое», партийно-идеологическое, пенитенциарное, армейское, уголовное, правоохранительное, орденское и др.), виртуальное сознание (сетевое, экранное, публичное и т.п.), этническое и национальное сознание (русских, евреев, армян, французов, и др.). Кроме того, существует институциональная рациональность – церковная, академическая, образовательная (школьная, университетская) и пр., а также поселенческий тип сознания (городской, сельский и т.д.).
5. Может быть, это самый ценный не только для автора, но и для читателя фрагмент всей книги (А.Ч.).
Постулировав «Я» и «Другое» мы тем самым постулируем их ограниченность, или ойкуменальность как принцип существования в современности.
Человек не осознает и не отдает себе полного отчета в том, кто он таков во всех возможных ситуациях своей жизни. Его самосознание обладает границами, зависящими от принятого типа рациональности. Он и сам живет, и пользуется предметами, мало что зная о них и о себе самом. Поэтому в европейской мысли то и дело на передний план выходит идея объективного, бессознательного и иррационального.
Поскольку современность ограничена достигнутым уровнем развития разума и типом рациональности, вопрос о происхождении человека теряет смысл. Проще говоря, конкретным людям, утверждает автор, безразличны метафизические причины их появления на свет (хотя это очень спорно: человек – существо любопытное – А.Ч.). Важно, что он уже есть и с этим надо что-то делать (Сартр). Человек для самого себя есть «Я», которое всякий раз локализовано «здесь и теперь». «Там и тогда» имеют экзистенциальное значение лишь как определяемые этим «здесь и теперь» цели, мечты, надежды, опасения и т. д.
В отличие от Ясперса, для которого пограничная ситуация является случайным открытием и шоком (например, смерть), для автора ойкуменальность не случай, и не простая гносеологическая неисчерпаемость, а бытие конкретного субъекта. Это необычайное, как важнейшая характеристика бытия человека.
Ойкуменальность вовлекает предметный мир в экзистенцию как свою внерациональную часть. Человек как «Я» сам выступает для себя пограничной ситуацией и придает такое же качество всей своей жизни. Поэтому ойкуменальность не чистая пограничность, не границы, а пространство как целое, рассмотренное через призму его границ. Осознание пограничности бытия субъекта требует рефлексии границы, того, что «Я» воспринимает как «горизонт» своей экзистенции. Рефлексия границы есть творчество культуры. Сама же культура становится рациональным проведением границы между «Я» и внешним миром, и вместе с тем разумным преодолением проведенной границы.
Читать дальше
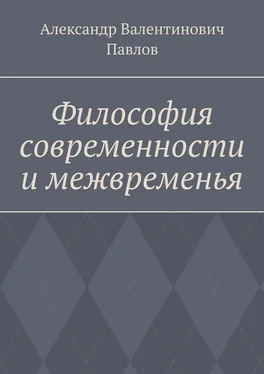
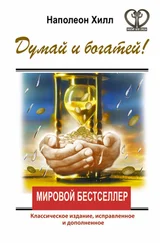
![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/388554/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-thumb.webp)
![Коллектив авторов Биографии и мемуары - Ковалиная книга. Вспоминая Юрия Коваля [второе издание, исправленное и дополненное]](/books/430445/kollektiv-avtorov-biografii-i-memuary-kovalinaya-kn-thumb.webp)