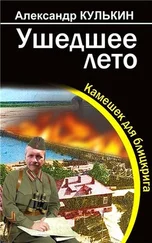Дверь, однако, не распахнулась, а только чинно отщелилась, как бы давая понять, что для ее настежного открытия нужно иметь солидную, тренированную частым с нею общением силу.
Первое, что неприятно удивило Алифашкина, это несолидное множество, которое он увидел в проеме дверей. Было в этом что-то улично-хулиганское, когда трусливая в общем-то компания идет кодлой на одного. Второе, что покоробило Николая Арефьича, – это подчеркнутая торжественность и даже высокий штиль, с которого начал вещать некто со сноровистыми глазами.
– Мы, – произнес он, – пришли, чтобы выполнить Указ Президента и опечатать здание.
– Как народную собственность, – невпопадно вякнул кто-то из тех, кто еще не наторел в захвате себе непринадлежащего.
В пору, когда по коридору длились шаги, Николай Арефьич подумывал встретить гостей, так сказать, широко, как рубаха-парень, пришедший к руководящему креслу от сохи на время, шутейно грохнуть оземь связкой ключей и сказать складушкой хуторского деда-частушечника Протаса: «Эта не власть, где не выпить, не украсть». Хотя другой раз о той же власти им так было сказано: «Великше великого она, только правит ею сатана». Ежели бы в тридцать седьмом он таким намеком чей нужно слух побаловал, осваивать бы ему Сибирь «безъярмачным, но ермочным способом». Это, подтыривая деда, говорит Гонопольский. А власть действительно велика, как рубаха не по росту: рукава закатишь, подол по земле волочится; подол подберешь, окажется, ворот, как прорубь на реке, в котором шея, словно удочка-зимница, а кадычок себелишкой некрещеным поныривает.
Но не распил Николай Арефьич бутылку с новопришенцами, равно как ничего не сделал и не сказал того, о чем минуту назад плановал, a, кивнув на воробья, что так освоился в кабинете, что в пепельнице все окурки попереклевал и по столу ими порассорил, произнес:
– И на него уже моей власти нету.
– На других тоже, – снедобролюбничал кто-то, однако не пожелавший показать Алифашкину свои глаза. Видимо, в кабинете все еще жил гипноз прежней высокой власти.
После формальностей, которые заняли определенное время, они неторопливым гуртком вышли из кабинета, и снова Николай Арефьич заметил рукодрожание у того, кто пытался запереть его кабинет. И опять кто-то нервно перехватил у него ключи и движениями, сохранившими автоматическую четкость исполнителя, выполнил еще один пункт предписываемого предназначения.
Алифашкин же, стараясь придать своему лицу беззаботность: мол, слава Богу, свалил бремя, – придал фигуре прошлую комсомольскую молодцеватость и резвовато для его положения сбежал вниз по лестнице, раздарил улыбки всем, кто был в вестибюле, и вышел.
В спину ему задышала глухота оставляемого людьми здания.
Он не сел в ожидавшую его машину, по мельтешенно рябеющей, как береговой прибой, «зебре» перешел улицу, заметив, однако, что машины притормозили, чтобы пропустить его; косовато-вскидно бросил взгляд на памятничишек Ленину, что явно не к месту стоял тут, подчеркивая унылую убогость. Но снять его ни у кого не хватило духу.
Все еще пружиня шаги, Николай Арефьич прошелся до конца сквера, до того места, которое как бы завершало обкомовские владения, и неожиданно, сам не ведая зачем, поворотил назад. Остановившись у мединститута, он пропустил несколько троллейбусов, а едва переступив порог очередной «двойки», оказался в поле строгости контролера:
– Ваш билет, – протянула старушка ему свою резаную морщинами руку, точно так, как протягивают ее попрошайки, прося милостыню.
– Я-я… – с запинкой пролепетал Алифашкин. – Депутат…
– Предъявите документ в развернутом виде! – построжела голосом старуха.
– Бабка, да отстань от него! – подал голос какой-то молодяк. – Это же Алифашкин.
– А мне хоть пусть Черепашкин, – огрызнулась та и обратилась к Николаю Арефьичу: – Тогда плати штраф.
Он, сунув в руку контролерше, кажется, полсотни, выскочил из троллейбуса за мостом, прошел по его пустынности с горечью, которая жгла грудь. И была она там оттого, что почти весь троллейбус, когда старуха выясняла с ним отношения, злорадно перешептывался и до него долетали такие фразы: «Побоговали, теперь покрутитесь», «Слуги народа липовые, полишили вас машин, и вы как рыбы на мели».
Кто-то нес и еще что-то более охальное. А тот молодяк, что было вступился за него, отворотившись, глядел в окно, делая вид, что ничего вокруг не замечает. Кажется, он даже изображал скучливую дремность, которая поражает его сверстников, когда они, сидя на инвалидских местах, не хотят замечать, что рядом стоит древняя старушка или одноногий дед.
Читать дальше