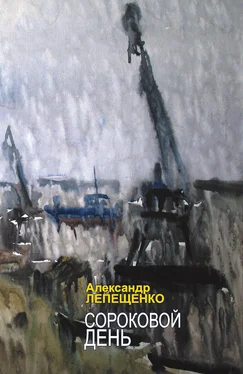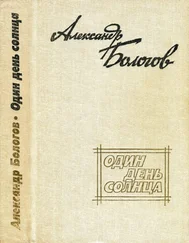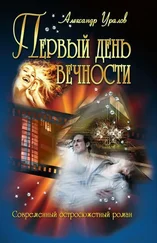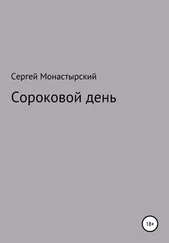Среди них Алёша Безруков, профессор Смирнов, Марина Крещевникова, Андрей Касилов и Митя Кольчугин. Есть в книге и личности исторические – Александр Родимцев и Тихон Бельский. Но главное в «Сороковом дне» не это. Для автора создание – пусть и мастерское – иллюзии жизни не представляется самоцелью. В центре повествования находятся отнюдь не события и даже не жизненные коллизии героев. Основу книги составляет описание бытия человеческого духа. Духа, изгнанного из столиц, из дорогих гипермаркетов, из фирм и бирж, с широких бульваров и площадей, с подиумов и концертных залов, растоптанного, раздавленного, ненужного, казалось бы, исчезнувшего навсегда, но сохранившегося каким-то немыслимым чудом на самом краешке жизни – там, у далеких рыбацких костров, в темных стенах полуразрушенных домов глухих волжских деревень, у инвалидных кресел, в невнятном бормотании юродивых, у потемневших окладов старых икон, в глазах любящего и готового пожертвовать всем ради любимого человека…
И оказывается, что свет этих далеких костров, мерцание в сумерках от спичек прикуривающих сезонных работяг, огни уходящих в вечность поселков, огненный крест, очерченный перстами монастырского блаженного, суть одно – это есть свет Неопалимой Купины, в пламени которой горят, но не сгорают дух и жертвенность, уже забытые, но сохраненные на сокровенных берегах памяти и любви. «Сороковой день» – это книга-напоминание… Напоминание о том, что где-то осталось еще что-то настоящее, что-то человеческое, без чего и людьми мы больше называться не сможем…
«„Люди, любите друг друга“ – кто это сказал? чей это завет?» – этот эпиграф из «Сна смешного человека» Ф. М. Достоевского был взят не случайно. Как сказал Александр Лепещенко о своей книге: «Я хотел напомнить людям о том, что они люди». И это ему сполна удалось.
Александр МЛЕЧКО, доктор филологических наук, заведующий кафедрой журналистики Волгоградского государственного университета

Заключённые четвёртой исправительной колонии неделю работали в Ковалёвке. По утрам, чертыхаясь, они рассаживались на лавках в бортовом ЗИЛе и уезжали из Ростова-на-Дону; днём мостили дорогу, а к вечерней поверке, угрюмые и раздражённые, возвращались назад. Не будь конвойных с автоматами, заключённые мало чем отличались бы от шабашников, тянувшихся летом в эти края за деньгой.
Начальство «четвёрки», напав однажды на золотую жилу, теперь бросило зэков её разрабатывать. Кольчугин знал это. А кто в колонии не знал-то: разве что священник, отец Алексий?
Кольчугин слыл первым каменщиком среди мастеровых. Когда работы для его кирки не было, он корячился со всеми. Теперь вот дорогу в Ковалёвке заканчивал. Заключённые, понимая, что дел осталось на полдня – не больше, расслабились. Кто-то часто и молча курил, кто-то словами случайными, обидными, злыми сыпал:
– Чё ты хочешь, Кольчуга?
– А чё ты можешь?
– Могу рёбра тебе обломать.
Дмитрий решил не спускать борзому зэку. В колонии умение задавить словом уважалось. А Кольчугин талантом давить обладал – не отнимешь. Фразы цедил он не то чтобы нехотя, скорее неторопливо, с достоинством; единожды высказавшись, стоял на своём стеной…
– А можешь и обломаться, бычара, – не порывисто, но твёрдо сказал Кольчугин. Ни один лицевой мускул его не дрогнул, лишь глаза цвета жёлудя потемнели, стали похожи на цыганские.
– Смотри, за базар ответишь!
– Чё, Ява, смотрящим сделался?
– Не грузи меня, зэк.
– Грузят лохов и проституток…
Как ни странно, мастеровым такие задёры были по душе: с ними время не сочилось по капле и работа не казалась столь тяжёлой. Порычав друг на друга, сплюнув чёрным под ноги, люди снова принимались раскидывать липнущий к лопатам асфальт.
…Тучи, сизые и тёмные, надвинулись на Ковалёвку. Зарокотало. Как перед грозой, в воздухе запахло огурцами. Неожиданно, смело и ярко блеснула красноватая зарница и раскрыла полнеба. И опять загремел дальний гром. В лобовое стекло ЗИЛа шумно застрекотали крупные, тяжёлые капли. Минут через сорок, через час зелёная туша грузовика выползла с размытой грунтовки на трассу, и заключённых перестало болтать.
Сидящие у борта вытирали фиолетовую грязь с лиц. Кольчугин курил в глубине под тентом, укрывая сигарету широкой, как блюдце, ладонью. Он глядел в остекленевший коридор дождя, блестевший за грузовиком, и думал о последнем письме Ольги. В щели за спиной мокро сёк ветер.
Читать дальше