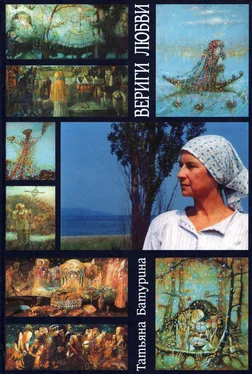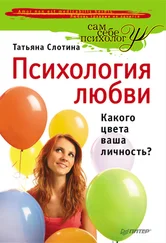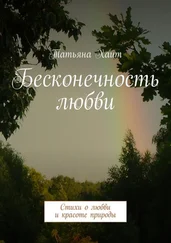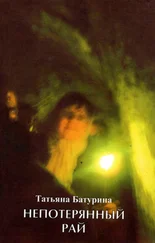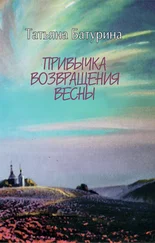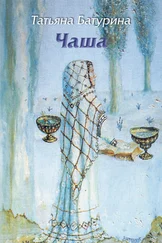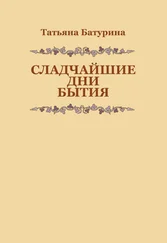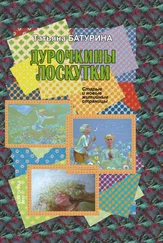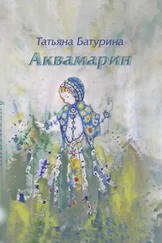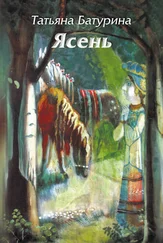Как знать, что было бы с мамой, если бы в апреле 1945 года она не встретила отца? Видно, сам Господь соединил их, коль оба остались живы и с войны вернулись вместе.
– Кого же из мужей ты любила больше, мама?
– Знаешь, сама себе удивляюсь, но любила всех одинаково. А отец… Это прекрасный человек, он многое мне прощал, жалел. А как он уходил, я не помню, наверное, что-то сказала обидное… Хотя обижать его было не за что, он только для семьи и жил.
Отец мечтал вырастить сад, но первая же весна убедила его в непригодности земли: мы поселились на горьких солонцах с белым налетом и близко подступающими грунтовыми водами. До сих пор не ведаю: почему именно здесь было выбрано место для постройки дома? Может быть, потому, что недалеко находилась ветеринарная лаборатория, директором которой отец стал сразу по приезде с войны? Наверное, не сам выбирал землю, спасибо и за ту, что дали. Было ведь не до житейских разносолов… Белесый пустырь с горько-соленой травой и талыми глиняными канавами, вдалеке – пожарная каланча, еще дальше – здание горбольницы, а где-то за ней – тот самый дом на улице Кирова, где содержался после пленения в 43-м немецкий фельдмаршал Паулюс.
Да, саду здесь не расцвесть, наверное, никогда. Отец огорчался, переживал. В то время он курил, и часто через стеклянную стену веранды я наблюдала, как ходит он по темному двору, освещаемом лишь огоньком папиросы да лампочкой у калитки, а вокруг – ни деревца, ни кустика…
Мы жили, кажется, на самом краю света, но как же я любила этот бекетовский край, как тосковала после переезда на Дар-Гору! В детстве – особенно, да и сейчас горячо делается сердцу, как вспомню, как увижу в памяти летнюю тропинку, мимо нашего забора бегущую к калитке. Я даже приехала однажды в юности в переулок Апухтина, подошла к чужому уже дому, заглянула в любимую дырочку от сучка в заборе: как тут теперь? По-прежнему ни деревца, одна лишь куцая трава, у собачьей пустой будки валяется тряпичная кукла с оторванной рукой, я вгляделась: надо же, моя, забытая! Наверное, нашли в сарае… Окна дома в глухих занавесках, вместо стеклянной стены веранды – кирпичная кладка, и кухня во дворе обросла кирпичом. Много перемен, если присмотреться, только куры по-прежнему бродят вокруг да около, поквохтывая.
Ах, как вольно мы здесь когда-то жили – посреди огромного бело-черного глиняного пустыря с белесой полынью! И вольно, и больно. Это необъятное поле столь раскисало весной и осенью, что невозможно было добраться до асфальтовой дороги, поэтому приходилось далеко обходить, вдоль чужих заборов, цепляясь за них, аж до пожарной каланчи, а там – по новым кругам к дороге. Однажды я не захотела делать эти долгие круги, пошла напрямик и с ревом вернулась назад в одних чулках: резиновые сапоги, как свинцовые, ушли в бездонную землю, утонули… И вызволить их было некому: отец и мать целыми днями работали.
Много позже я узнала, что же это за земли такие – Отрада и Бекетовка. Там, где нынче прямо посреди жилых дворов растет камыш, текла когда-то речка, как звали – никто не ведает. На месте нынешней Отрады на левом берегу речки были замечательные дубравы, росли березы, били родники. Ехал в ту давнюю пору, в 1762 году, через Царицын в Астрахань новый астраханский генерал-губернатор Никита Афанасьевич Бекетов. Увидел дивную красоту и молвил:
– Какое место отрадное!
А еще через десять лет, оставив государственную службу, Никита Афанасьевич обосновался в этих местах, в своем поместье, которое стали звать Отрадой. Он построил здесь большую усадьбу с настоящим дворцом, позже все сгорело при большом пожаре. А главное – Бекетов заложил церковь, и построена она была на его средства, но уже после кончины. Благодарные прихожане назвали храм Свято-Никитским во имя святого Никиты Исповедника, небесного покровителя Никиты Афанасьевича Бекетова. Брат же Бекетова, отставной майор Петр Афанасьевич, поселился на правом берегу речки, и слобода эта была именно им названа Бекетовкой. Речка за два века утекла в нети, оставив после себя непригожие пустырные земли, которые потихоньку все же заселялись, обрастали кое-какой зеленью, а вот настоящие сады не заводились.
И на нашем подворье в переулке Апухтина так и не вырос сад, зато трудами отца появился еще один дом – летняя кухня, где поселилась мамина сестра тетя Тося с дочерьми Люсей и Аллочкой. Нас стало много!
Я помню беспряничную бедность со всеми ее перелицованными платьями и стоптанными башмаками, с неизменной жареной картошкой и вываренной до крошева сушеной рыбой, с самым лучшим лакомством – ржаным хлебом, политым горчичным маслом и посыпанным сахарным песком, только Таня Могилевская всегда хвалилась белым ломтем с топленым маслом. Когда все дети со своими заветными кусками выходили на улицу, надо было успеть крикнуть:
Читать дальше