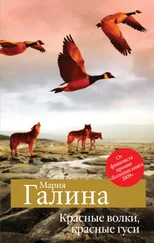Она не любила сражений, посаженных в банку из-под варенья скорпионов, когда те жалили друг друга рыжими хвостами, похожими на перевязанную колбасу; плакала, когда мальчишки подстреливали из рогатки птиц, хоронила во дворе их тушки, молясь, как умела, за упокой их птичьей души…
Брат приносил домой богомолов и учился у них искусству боя, а те, длинные и высокомерные с немигающими глазами, раскачивались, гипнотизируя друг друга, наносили удар за ударом, которые он тут же повторял в отражении платяного шкафа, радуясь, что теперь знает, как досадить тому упрямцу во дворе, не желающему отдавать рогатку, – он просто победит его, как тот желтый богомол.… Позже, вдоволь насмотревшись на них, он выбрасывал в окно того, что проиграл, а победителю выкалывал глаза тонкой иглой, ибо победителем мог быть только Человек и только Мужчина. Так Она познавала мир…
*
В дымной кухне, где невозможно было дышать от запаха вареного лука и морковной поджарки, матушка, как жрица, колдовала над погнутой сковородой: жарила кофе.
Наблюдая за водоворотом шоколадных зернышек, она медленно вращала по кругу деревянной ложкой до тех пор, пока каждое не покроется легкой испариной, пересыпала на специально предназначенную газету с пожухлыми краями, а потом уже остывшие с почерневшими боками перекладывала в банку из-под чечевицы, оставив до вечера, когда придет домой Мужчина…
Отец и Кормилец, сбросив у дивана стоптанные ботинки, не заметив, как блестит начищенный пол, и не снимая грязной одежды, завалившись уставшим зверем на чистое покрывало, гаркнет на детей, устроивших возню у его ног, и будет дремать до тех пор, пока Женщина не соберет на стол. Неутомимой пчелой, не дай Бог не успеет до того, как Отец приподнимет воспаленное веко, она выложит зелень, нарежет свежие овощи, достанет сыр и вино. И происходит Ужин.
Он молча садится за стол, и перед ним возникает тарелка с дымящимся супом из овощей, в котором скалой возвышается кусок мяса, самый большой кусок в кастрюле, потому что «это –Отец», и, разогнав детей, она тихо пристроится рядом, подперев голову рукой, будет смотреть на него с Великой Нежностью, зная, что по обыкновению, он обожжется, выругается и потребует холодного вина. Внимательно, с придыханьем выслушав его брань, она, учитывая каждую нотку в голосе, поймет, какое сегодня у него настроение, что он будет делать весь оставшийся вечер: пойдет играть в домино перед домом в беседке, где каждый вечер идет игра не на жизнь, а на смерть; или устроившись на диване с газетой, останется дома. Но сегодня он едва уловимо пробурчал «спасибо», значит никуда он не пойдет, а выкурив после плотного ужина положенную папиросу, возьмет старую, от прабабушки, кофемолку с кривой ручкой, будет чинно перемалывать зерна, над которыми она ворожила; мозолистые руки будут пахнуть железом и, может быть, если не рассердят дети, он зайдет в спальню, поджидая ее, пока она «невзначай» не зайдет за каким-нибудь полотенцем, и тогда прижмет ее к Великой Стене, у которой был зачат младшенький, где уже проступает жир от пятерни ее рук; тогда она подумает: «Ну и что, что вчера ночью он ударил меня, когда я во сне повернулась к нему спиной, может, ему просто стало страшно?»… А потом, наспех одернув подол юбки, пойдет раздавать подзатыльники детям, которые, приоткрыв дверь, тихо наблюдали пустыми глазами за возней родителей…
Наглухо запахнув кофту, пряча пышные прелести, она выйдет на балкон и, собирая белье в плетеную корзину, поздоровается с соседкой, приглашая ее на чашечку кофе: «Он намолол кофе!» – скажет она с гордостью, вложив туда все, что произошло за этот вечер, и соседка с похотливыми глазами и понимающей улыбкой пожурит ее: «Ох и разрезвились вы, как уехала свекровь в деревню, разрезвились!». Она, конечно же, придет и как всегда будет рассказывать о своих тяжелых родах, о том, что врач в целях гигиены «заставил побрить то самое место , моя дорогая!», и с гордостью умудренной опытом женщины будет говорить о семнадцати «или сколько точно я уже не помню» абортах, которые она сделала за все время своего замужества: «Так уж мне повезло с моим , такой Мужчина!»; а приметив издалека силуэт девушки, идущей вдоль дороги, возмутится неслыханной наглостью «этой потаскухи!», позволяющей себе шествовать по улицам в час, когда целомудренные женщины пьют свой полуденный кофе, намолотый праведными руками кормильца. «Как она смеет? Эта блудница, прости Господи, ходит в поисках мужчин, а еще говорят, что после того, как она отдается в подворотне первому встречному, как только он пожелает, после всего, что не позволит себе ни одна приличная женщина даже в постели с мужем, она еще и…» И, прошептав страшное слово , оглядываясь по сторонам в поисках невидимых ушей, мгновенно определит по выражению лица соседки, не знакомо ли ей вдруг это , успокоится, видя испуганный взгляд собеседницы, скорбно кивающей головой, продолжит рассказ о том, что делает «эта шлюха!», смакуя детали, вгоняя в краску даже тонкий плющ, вьющийся вдоль балконных перил, утопая в благостном осознании собственного целомудрия. Но, отхлебнув терпкого кофе, все-таки поздоровается натянутой улыбкой и еле заметным кивком головы с виновницей своего триумфа, когда та поравняется с ними – «потому что все же она из приличной семьи, и отец ее не последний чиновник в нашем городе, моя дорогая»…
Читать дальше