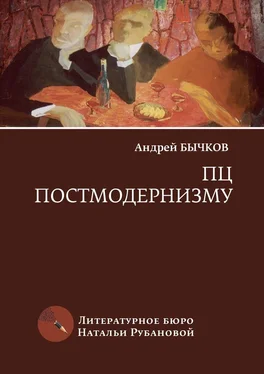Но здесь, в выставочных залах, он чувствовал себя не очень уютно, ему захотелось вдруг крикнуть: «Я профессор!» Почему эти люди здесь ходят с такими умными лицами, ставят там что-то из себя, как будто что-то там понимают? О, эти культурные люди, не могут ведь сами-то ни фига, только повторять, повторять, делать вид, что придумали сами. Но все же разговор о рамах был интересен, в самом деле, ведь это тоже был путь изобретений, так же, как изогнутые картины Раушенберга из соседнего зала, которые, пожалуй, понравились профессору больше всего, эти полотна-газеты-двери-раскладушки, выходящие из плоскости, выходящие из живописи, по крайней мере, они развлекают, можно и самому придумывать в том же плане, не будучи при этом живописцем. А зачем она, живопись, такая, например, как у этого, как его, Моранди, в чей зал профессор не заметил, как перешел? Похоже, что этот Моранди рисовал всю жизнь лишь одни натюрморты, на протяжении десятилетий одну и ту же дюжину предметов, меняя лишь положение одного из кувшинчиков, а то и вовсе поворачивая его ручкой слева направо. Или вот эти карандашные наброски – всего две-три корявые линии. Нет, профессор не понимает, почему Джон восторгался Моранди, почему за этими «каляками-маляками», как сказал бы его, профессора, сынишка, гоняются коллекционеры, платят бешеные деньги, нет, он не видит, не хочет видеть в этом вот, например, карандашном рисунке никакого бога, он не хочет слушать другой случайный разговор о простоте, о скрытой метафизике композиции, о, эти культурные людишки… «Смотри, Моранди решает свои задачи, этот синий кувшин за белыми чашками, для устойчивости Моранди добавляет синее пятно и слева от чашек, хотя кувшин там и не просматривается, скрытая симметрия, она существует, и дело совсем не во внешней эффектности или нарядности, дело не в изобретенном приеме, который потом легко тиражировать, а в глубине видения, идти в глубь простых вещей – это и есть новизна, Моранди ищет своего бога». Нет, он не понимает, не хочет этого понимать, этой, на его взгляд, патологической тяги к плотно поставленным банкам, буханкам, молочницам примерно одной высоты, примерно цилиндрической формы или к этим изящным кувшинам с длинными шеями, похожими на подсвечники, расставленными, наоборот, очень редко. Чего он хочет, этот художник? О чем он рассказывает, этот Моранди? О чем вообще могут рассказать картины? Разве это путешествия? Нет, зря он зашел сюда, это все из-за Джона Киргстайна, но надо же как-то поддерживать личный контакт, черт бы побрал эти манерные разговоры об искусстве, почему богатые люди всегда хотят слыть знатоками музыки, литературы, живописи, или они несчастны, эти миллионеры, он, профессор, всегда считал, что искусство существует для тех, у кого нет своей жизни, нет, «пивные прекраснее», они проще живописи Моранди и выше, разве только вот эти рамы еще из соседнего зала, но все равно пивные прекраснее: «эй, парень, не трогай его, пусть бренчит», «а я и не трогаю, я только пива хотел ему дать», «на тебе яблоко, отстань от него». Вульгарная пуповина, ум как обман, профессор-охотник, отдыхающий в трактире.
…толкнул его в эти стеклянные двери. Купить билет, потому что под рукой нет салфетки? Купить, и войти в эти двери, и увидеть эту белую стену, освещенную ярче у самого верха, и это пустое бордовое кресло в подножии, разве это само по себе не картина? Или это нетронутая страница? Страница для угля, который есть сожженное дерево, сожженная жизнь, так и он, сжигаемый своим бесом (богом?), он должен оставить где-то обугленные следы. Но если снова начать здесь, на этой стене, в этом храме, где рассеяны осколки другого искусства, ведь фразы, которые он так внезапно видит, это тоже по сути картины, они самодостаточны, эти фразы, время остановлено в них, и зачем позволять ему снова бежать, чтобы что-то происходило, остановлен порок и схвачен, зачем отпускать его, давать ему огнедышащую волю, эвкалиптовый завлекающий запах, завораживающее касание тела, электрический ток, металлоломную внезапную силу, нет, словно громоотвод, он принимает в себя этого беса, и его бог помогает держать ему его беса. Всё же эти слова – лишь пар, предохранительный клапан? Или это тропинка к ужасному, которое ждет его черной каплей в конце написанной строчки? Проклятие словом, гипноз и самогипноз. Облегчение участи? Но здесь, в этом храме, он не станет кощунствовать, он никого не изнасилует здесь и не убьет, он оставит здесь лишь свое покаяние, он раскается в преступлении, которое совершит потом, еще не зная тела, над которым он надругается, и в которое войдет потом его нож. Напишет ли он на белой стене или только в своем воображении, в конце концов, это не так уж и важно, и что это будет – письмо в какую из высоких инстанций, в конце концов, это не так уж и важно, только бы повернуть стрелу времени, позволить ему течь в раскаянии, и, может быть, тогда он достигнет поверхности, бесконечной поверхности. И тогда на нее можно будет опереться. Бесконечной белой стеклянной поверхности… Белая стена, освещенная сверху софитом, бордовая раковина пустого кресла, чистая, неисписанная страница. Пусть это будет письмо:
Читать дальше