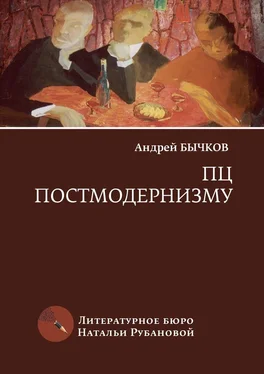«Когда я уже стал известным писателем, нажив миллионы нечистыми спекуляциями на чьей-то боли и тоске по справедливости, притворившись губкой для чьей-то несчастной души (о, я делал это искусно!), когда, уже обезопасив себя именем, мог многое себе позволить, например, напившись пьяным, упасть в лужу в белом костюме или неожиданно раздеться в гостях с криком „я гениален, смотрите!“, когда… но однажды я получил странное письмо. Мне написала девушка. Она просила иллюзии. „Зачем тебе иллюзия? – ответил я. – Ты несчастна, но так было со многими. В жизни правды нет. Но она есть в книгах, в том числе и в моих. Читай эти книги“. „Но я хочу иллюзии, – ответила мне она, – хочу забыться в книге, а не увидеть в ней свое страдающее отражение. Я не хочу 6ороться, побеждать или проигрывать, ведь это одно и то же. Я хочу любви“. Тогда, что я сделал тогда? Нет, я не написал для нее книги о любви, наверное, потому что в любовь я никогда и не верил. Я просто назначил этой девочке встречу в своем загородном доме. Она приехала, и я долго говорил ей о справедливости, а потом напоил ее чаем со снотворными таблетками, а потом… я просто изнасиловал спящую. Я сделал это очень аккуратно».
Господи, Боже, прости его, грешника, приготовь для него казнь очищающую, сожги его помыслы сейчас, пока он одевается, пока еще не успел выйти на улицу, чтобы разбрасывать семена дьявола, сеять зубы дракона, сеять ветер, сеять бурю. Чего он хочет? И кто говорит через его смрадные уста? Сколько их – бесов? Что он задумал, и есть ли у него угрызения совести? Ведь с каждым извержением он чувствует все меньше раскаяния, и он уже не поедет плакаться к матери. Он выйдет на улицу, он дождется язвящей жары. Будет ли он разбрасывать салфетки? Неужели он думает, что кто-то его простит? Кто-то, кто всю жизнь проводит в заботе о своих детях, а потом о своих стареющих родителях? Кто все еще верит в книгу, которая хранит чистоту и возвышенность, ведь где-то это должно оставаться, раз этого в жизни нет. Этот кто-то, конечно, его не простит. Так казни лучше сейчас его, Господи, нашли на него столбняк, ударь молнией, ввергни его в геенну огненную, в Коцит и в Джудекку, ибо через него совершается совращение. Не верит он в Тебя, Господи, оставляет в себе лишь своего беса, втайне называя его богом. О, Господи, не дай ему выйти! Пусть изменится утро, пусть не будет жары, это должен быть пасмурный день, холодный. Дождь вместо солнца. Дождь, омывающий тротуары и стены, поток, уносящий мусор с площадей и улиц.
За этим странным человеком профессор наблюдал уже с полчаса. «Этот тип, может быть, и гениален, но он явно попал не туда», – думал профессор, лениво переходя от картины к картине, шаг назад, общий план, композиция, шаг вперед, разглядеть детали, как это делают культурные люди вокруг, еще шаг вперед, обратить внимание на мазок, нагнуться, прочесть название, внимательно оглядеть багет, прислушаться к чьей-то умной фразе о том, что искусство с холста постепенно уходит на раму, кто-то видел и резные деревянные, и металлические, и мраморные, и обычные широкие, но с вделанными бутылочками и кувшинчиками, и рамы из бревен, и из канатов, рамы светящиеся и рамы из свернутой колючей проволоки, из черствых батонов черного хлеба, аквариумные рамы в виде стеклянного полого бублика с настоящей водой и настоящими золотыми рыбками, да и сам профессор теперь вот, только что видел в соседнем зале рамы, просто покрытые живописью, обрамляющие нетронутые холсты, и именно рядом с ними он заметил этого странного человека, который подходил к этим чистым холстам вплотную, но почему-то совсем не разглядывал рамы, как другие, но подходил очень близко, на расстояние вытянутой руки, словно сам был художником, вдруг замирал и с какой-то маниакальной неподвижностью устремлял свой взгляд в самую сердцевину пустого холста, как будто провидел там новую живопись.
Собственно говоря, и сам профессор попал на эту выставку почти случайно. Если бы не восторги прыщавого капиталиста Джона каким-то Моранди, профессор прошел бы мимо, не обращая на афишу никакого внимания. Он был, пожалуй, слишком счастлив, чтобы часто посещать выставки и концертные залы, чтобы читать книги. Ему хватало его задач, радости внезапного понимания («ноу хау»), ему хватало его жажды жизни, он любил деньги, вино и подводную охоту, реальную плоть, а не вымышленную, его бог был в земле, его бог не был в какой-то там абсолютной истине, и сам он никогда не умалчивал об этом, потому что давно уже смеялся над теми, кто ищет эту абсолютную истину в век политики, выгоды и спонтанного нарушения симметрии. В душе профессор был изобретатель и бизнесмен, что отличало и стиль его научных работ, и часто, смеясь, он говорил своим аспирантам: «Человечество сделало три великих изобретения – колесо, которое само на себя опирается, и это есть цикл в обобщении, алкоголь, который есть концентрированная радость, и деньги – они освобождают». Иногда, одеваясь простолюдином, в кепку и старый поношенный пиджак, профессор любил путешествовать по пивным, натягивая, таким образом, пуповину, связывавшую его с землею, созерцая мать свою в неприглядном виде, этот гул: «где размен?», «ты попробуй за три ее сдай», «чашечка не освободилась у вас?», «да за нее и полкуска не дадут», «бери-ка целый поднос и сосисок на трешник»; кто-то спит уже, отвалившись на подоконник, головою уткнувшись в угол стола, старичок в синих кедах с красной резиной подошв играет на самодельной домре, и с другими он тоже, профессор, осоловело глядит на этого старика, грубо и нежно подвигая ему свою кружку – «на, попей», с благодарностью ощущая безмерность того, что их разделяет.
Читать дальше