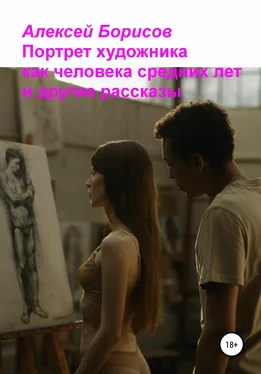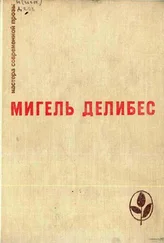– Какой он у тебя большой, какой твердый… У меня были парни, но ни у одного не было такого большого и твердого…
«Врет, стерва!» – подумалось ему, но то ли от прохлады ее пальцев, то ли из-за хлынувшего от испуга в кровь адреналина он почувствовал, что к нему возвращается бычья сила, прежняя тетивная упругость. Девчонка тоже отреагировала; перестав нашептывать, быстро стянула с себя джинсы и уселась лицом к нему ему на колени, широко развалив узкие девичьи бедра. Поднялась над ним, как поднимается степной охотник над своим конем, запуская в небо сокола, и задрожала струной, опускаясь. Вновь взмыла птицей и бесконечно долго падала, словно набираясь сил для нового взлета. Движения ее становились все быстрее и ожесточеннее, дыхание резче и чаще. Сил у нее, чтобы вытягиваться стрункой, уже не было, и она раскачивалась перед ним, хрипя и теперь почти елозя лицом по его груди.
И художник внезапно понял, что смысл происходящего вовсе не в том, что он овладевает этой девушкой; наоборот: это она через него, через пользование его детородным органом должна овладеть тем тайным смыслом, той искрой, которая рождает великую тайну творения. И у нее это почти получалось, и лишь в последний момент что-то срывалось, гас зарождавшийся огонек, и она, стиснув зубы и запрокидывая голову, с порывистой быстротой возобновляла свою степную скачку.
Выброс семени застиг ее, как выстрел из ружья, как пуля, пробившая охотничьего сокола. Сразу ослабев, она поволоклась щекой по его груди, скривилась набок, прошептав что-то искусанными губами. Словно пробудившись, несколько мгновений смотрела туда, где все еще сочленялись их тела, потом, как ни в чем ни бывало, слезла с его колен, сцепив пробками, вскрыла две бутылки, одну протянула мастеру; она перемещалась по залитой мутным белесым светом комнате почти как рыбка в аквариуме, и ее длинные нагие ноги извивались в его глазах, как белые змеи. Попеременно глотая из горла пиво и затягиваясь сигареткой, она что-то говорила, но после сеанса мастурбации девичьей писькой и выпитого пива художника потянуло в сон; что-то пробурчав, он перебрался на диван и завалился на холодные кожаные подушки.
Проснулся, наверное, уже часу в четвертом утра. Девушка спала, свернувшись клубочком под его курткой, и свет уличных фонарей лунными дорожками отсвечивал на ее тонких, словно полированных, голенях. Художник вспомнил, как она пришла к нему среди ночи – пахнущая краской и замерзшая – она работала допоздна, и он вновь был необычайно силен, совсем как тогда с Верой, и ее худенькое тельце оказалось невероятно чувственным и благодарным.
Ему стало интересно, что у нее получилось. Он поднялся, зажег свет и подошел к мольберту. То, что он увидел, ему понравилось гораздо больше, чем то, что он видел днем. В ее рисунке появилась напористость, энергетика. Теперь в доминирующих на холсте протяженных, устремленных вверх формах кувшина угадывалась повелительная властность, и его раструб грозяще смотрел вверх, и в крутизне его боков просвечивала мощь бычьих тестикул. Полотенце, выглядевшее на его оригинальном рисунке символом капитуляции, в ее изображении превратилось в белесый молочный путь, выплеснутый чреслами богов. Правда, все это едва угадывалось в ее рисунке; может, скорее лишь казалось его взбудораженному воображению.
Озорно улыбнувшись, художник, крадучись, взял кисть и несколько раз едва уловимо коснулся холста, и то, что только чуть просматривалось на картине, вдруг проступило явственно, похабно, кричаще. Хихикнув от удовольствия, он вытер руки, выключил свет и пошел на диван досыпать.
Когда он пробудился во второй раз, девушки уже не было в студии. Она убежала, прихватив свои отчетные работы. После вчерашнего эксцесса ему хотелось взбодриться, и он направился туда, где ему пока еще не отказывали – к старой веркиной подружке, все еще привечающей его. Но у этой швабры в гостях оказался благоприобретенный хахаль, и художник, стушевавшись, откланялся.
Потом он пошел пешком к Виктору – юному алкоголику, сыну состоятельных родителей, увлекшемуся рисованием, – у него в мастерской всегда «было», но сам он на этот раз запропастился. Время уже клонилось к трем часа дня; со вчерашнего у него не было во рту ни маковой росинки, а в карманах – ни копейки. К счастью, он каким-то образом очутился в окрестностях «альма матерь», и ему пришло в голову зайти к Склянычу и потребовать что-нибудь наподобие аванса.
Alma mater встретила его оживленной суетой; он вспомнил, что на сегодня назначен показ конкурсных картин, но никак не соотнес это воспоминание с деятельностью своей протеже. Несколько знакомых художников пожали ему руки, чего уже давно не случалось, а идиот Марайкин, который не умел даже держать в руках кисть, минуты четыре плясал перед ним в коридоре, хватая за лацканы пиджака и выкликая что-то наподобие:
Читать дальше