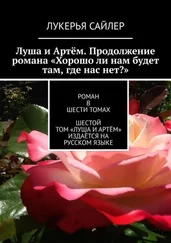Увы, глух к потугам ейным остался курчавый наш красавец Неверии, и то дело – сам паче чаяния за Марьей Аникиной бегал, приударял, «замуж собирался». Марья – та в девках ходит, а Томка деток родит. К тому ж по веси-по весне слушком-молвою нечаянно-непрошенно полезло-поползло: другие, мол, женщины беду отводят, а Глазова наша – здорово живёшь! – и ведьме в подмётки, но и не подарок-жена. Так-то. На роду ей, что ли, написано: всякого, кто под венец с ней сунется, изурочит глазом, в могилу болотинную сведёт. Вона каке страсти-мордасти! Не зря, видать, фамилию Фёдорову менять не стала, знаем мы ваших! (Максимушка, тот смирился, не фордыбачил шибко – не с фамилией жить, с человеком. К пустому звуку чего ревновать? Да и с Федей знался-якшался, слава Господи, не раз и не два, даже дела общие имели…]
Мнда-а… время разум даёт, а от большого разума с ума сходят.
Неслись вскачь дни, тянули лямку годы. Когда старшому, Толяне, семь стукнуло, было Тамаре не много не мало – тридцать с гачком. Сидела как-то на приступке верхней, в ногах Прошка барахтался, вдруг… Нет, ничего разэдакого не сталось, всё было на прежних, на заказанных местах своих: карабкалось вгору сквозь застень рванья серого, да лохмищ косматых с гулькин нос солнышко, гонялся за пылюкой ветер-прохвост, шумел-скрипел то дружно, внапряг, а то лениво и вразнобой кряжистый в доску бор окрест, голосила живность, чертили зигзаги-узоры шустрые птахи… и всё-таки чтой-то в мире сменилось, произошло. Будто током прошибло! Дыхнуло, повеяло враз… Подёрнулось рябью волноватой… Иное, новое, свежестранное-не чужестранное коснулось крылом… и радо бы приобнять… Очнулась деревенька, словно из спячки берложьей вышла, на потревоженный улей, муравейник сподобилась: всколыхнулись звуки привычные, засуетилось-заходило вся и всё кругом, резче обозначилось, забилось толчками пульса учащённого, горячечного…
Вот один, а вона и другой-третий мужик (день, благо, воскресный, вруцелётный!] озираясь воровато, спешно в лес подавались с котомками базарными за плечами, но вскорости выныривали из пучины хвойной-лиственничной и нелепо тыкались-мыкались взад-вперёд, чтобы, набравшись духа, опять пропасть на ненадолго в кипени дремучей. Малахай, ичиги стёртые, берданка… На голове у каждого невесть что… бр-р… в жарынь пеклую первосентябрьскую… делы-ы!! А за ними – и жёнки ихние! В домоткани грубой, простой, все такие сурьёзные, активные – живот надорвёшь со смеху. Зачуяв неладную, мышиную возню, что промеж людей пошла, вперекличь растявкалось верноподданное сучьё-собачьё, подтянули кудахтаньем спорым, мычаньем жалобливым вестимо кто… Короче говоря, спокойной оставаться Томка уже никак не могла. Сбираться скоро умела, даром что в бытность девичью непоседой слыла. Раз, два – и готово. Наказала Толяне за младшеньким в оба доглядать, набросила на себя с Фёдорова плеча доху, повязала голову цветастым платком – Максима подарок вслед сговору, и припустила за соседями под общий переполох. Изредка долетали до неё, взъискривались слова, обрывки фраз – «навалом!», «золото!», «айды!»… Неведомая, ангельская, звонко-загадочная мозаика из падающих ниоткуда, сыплющихся несметно осколков, звёзд, страз, монет, брызг, бисера… Золото! ЗОЛОТА-А!!! Э-эх-ма, сшвырнуть бы наземь, долой судьбу и душу подъяремные (чтобы детей, себя прокормить вкалывала Тамарочка подстать мужику на барина местного, которому по большому счёту каждый, каждая здесь и принадлежали), взмыть птицей вольною-разбитною надо всем, что застит гущи-кущи райские, люто долу гнёт. Сбросить бы с плеч беды-печали, да бабочкой-однодневкой по просторам вешним запорхать… вечно, в лучах и синьке крылышки радужно-прозрачные выполоскать!.. Запеть! Во хмельной пляс-перепляс на радости – взапуски… И-и!!
Впереди – она это ясно видела теперь – широко, по-хозяйски ставя обутые в чёсанки ножищи, ломился её (ой, ли?) Кузьма, сам-один и какой-то разобалдевший, чумной до невероятия – таким она его раньше не знавала. Отчаянное, ухарское и вместе досадливое, хуже – затравленное сквозило во взглядах, которые он поминутно бросал по сторонам. Читалось Тамаре: опростоволосился ведь и ка-ак! Надо было случиться такому!.. Не сумел тайну заманную от сторонних ушей и глаз схоронить…
А дело в том было, что незадолго до дня сего… предрокового в нехоженых дебрях таёжных, где в скрадке сиживал, селезниху ль выцеливая, по другим каким охотничьим надобностям, чудом-случаем неслыханным, образом невиданным знашёл-обнаружил Кузьма самый на свете белом дорогой крушец, быть может, одну-единственную под луной прямо наружу из земли бьющую вперемежку с самородками бессчётными меснику. И это в заболотистых в целом краях! Диво дивное! Пласт тот, по всему судя, (глаз у Кузьмы намётанный, зря, что ли, с приисковыми дружил-якшался!) необъятных размеров был, отливал далече-обок жилами цветно-мутными и на месте том, как водится, ничегошеньки почти не произрастало. Самое же изумительное: почему до него, до Кузьмы, сезам сей сказочный никто не отворил? Век живи – век вопросы ставь и восклицания.
Читать дальше

![Андрей Иркутов - А.А.А.Е. [Роман приключений. Том II]](/books/29976/andrej-irkutov-a-a-a-e-roman-priklyuchenij-tom-ii-thumb.webp)
![Андрей Иркутов - А.А.А.Е. [Роман приключений. Том I]](/books/30164/andrej-irkutov-a-a-a-e-roman-priklyuchenij-tom-i-thumb.webp)