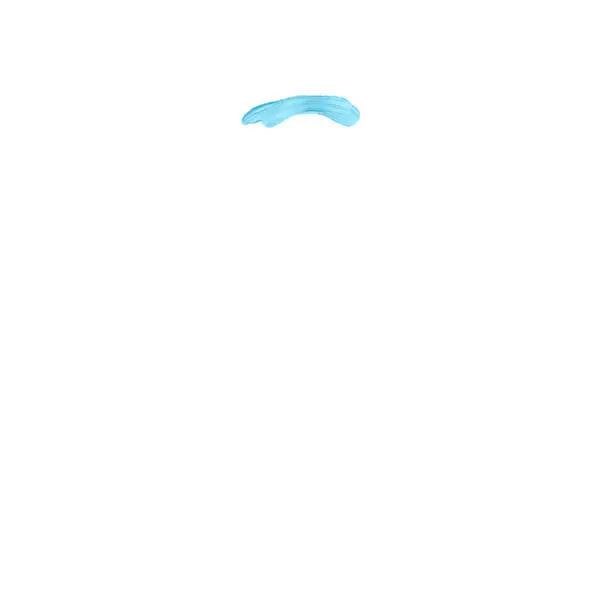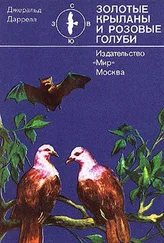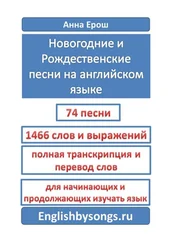Всю следующую жизнь мы были просто счастливы, исполняя все наши мечты, и каждую ночь видели южные сны, поэтому мне велено рассказать всего об одном моменте этой жизни. Когда мне было шесть, почти семь лет, папа, мама и я (мы вместе) попросили особенного ребёнка из детского приюта. У нас всё получилось. Всё внутри меня любило всё внутри его, и когда настал день решения, невероятный момент предчувствия начала новой жизни, в которой не закончилась эта, я тоже танцевала босиком и после – сильно молилась. Его особенности, а для меня они идеи, были и будут невообразимо прекрасны, и станут моим голосом и голоском моих детей в этом мире, когда меня не станет. Мы никогда не сдавались. Ни-ког-да. И когда ему наступило столько же бесконечных лет, сколько было мне, когда мы впервые встретились, он больше всего мечтал пойти в обыкновенную школу. Я это чувствовала, как и ощущала разрешимую для меня неразрешимость моих мамы и папы, неизменно любящих эту жизнь и весь этот счастливый мир. В августовский вечер, я прокралась в его комнату и надела кристалл со своей груди на его, предварительно попридержав его светлую голову. Будучи прозрачным и с узорами внутри, как моя любовь, на нём он засветился и стал драгоценным, розово-золотым. С тех пор он, наш свободный Теодор, посещал школу, потому что мечтал уже не только в стенах дома, но везде, не боявшись одиночества.
От дрожи надежды, я наконец свернулась клубочком между ними, чувствуя, как сквозь меня произрастает чудо, и повернулась к Тео, обхватив его лицо ладонями. Я плакала от счастья, слыша как без слов мама и папа через комнату занимаются любовью в день своего навеки вечного Рождества. Я плакала, потому что знала, что мой Теодор – следующий, и во имя грядущего я наконец поцеловала его в точечку между лбом и переносицей.
Вскоре полная тишина заполнила наш дом праздника, волшебный дом. Я проснулась случайно и спустилась вниз, к камину, где последний колышек всё ещё нежно согревал мой предвенчальный кофе. Сделав глоток и сразу же другой, я принялась рисовать акварельными карандашами то, что желал произнести моими образами Бог.
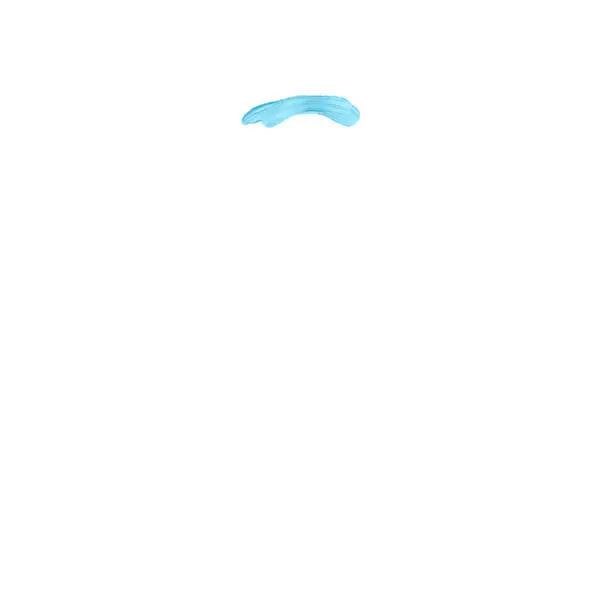
Вторая, необъятно поздравительная
Небесные мама и папа нашли меня днём, всё ещё спящей у почти остывшего камина, куда папа положил новых дров и всё равно поспешил обернуть меня одеяльцем. Улицу ласкало новое солнышко, петербургский мороз рисовал на окнах то, что нарисовала ночью я. За завтраком я рассказала родителям, что приснился цвет глаз Теодора – это был цвет внутреннего купола стамбульской Айи Софии, не похожий больше ни на что голубой полинялый кристаллик.
Следующие дни я часто размышляла об ответе священника на мой вопрос. Рано начиная каждое утро с массажа ангела божьего, что поглядывал на танец моих рук не глазами голубой мечети, но своим добрым розовым сердцем, я сознавала и принимала, что мы живём совсем не так, как живут все. Многие, многие месяцы я искала подходящее маслице, которое бы каждым соприкосновением с кожей рук Тео слышным шёпотом просило пробуждение случиться. В примечательный осенний вечер я, звёздочкой полярной сидя на полу, прислушивалась к тому, с какой любовью мама играла на арфе перед взглядом папы, переполненном самыми первыми чувствами, и один из наших гостей рассказывал, что парфюмер выпустил парфюм об искусстве брать и просить прощения, где он услышал сливочный сандал, иланг-иланг и очень красивую розу, лист чёрной смородины в сахаре, сопроводив его словно косою полосой шафрановою – белым стихом о сожалении.
Но лишь эта боль, пережитая и полная знаков,
лечит и создаёт память,
только царапины, нанесённые жаждой попросить прощения,
определяют выбор.
Взывай к храбрости, которая запускает калейдоскоп перемен,
даря болезненные цветы,
и дыши на лепестки.
Мне жаль.
Тогда мне показалось, что оно могло бы стать настоящим третьим в цикле «Июльское интермеццо» из девяти стихотворений, пронумерованных 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Парфюмированное маслице я сделала сама, собирая всё воедино, когда плавала в ванной с мамой вдвоём, но заменив те красивые розы на ещё более красивую, турецкую. Теодорину.
Я много думала, как мне избежать его чувства вины за сновидение длинною в крохотный нарисованный кружок Сансары, к высшему творению которого он не должен иметь никакого отношения. Потому с каждым согревающим касанием, разглаживанием масла по коже младенца и втиранием вглубь её, я просила прощения за положение, просила возможность этого просто не родиться. Мне особенно мечталось, чтобы Теодор ни за что на свете не испытал его на своё день рождения, что каждый год гряло в самый нежный день зимы – праздник тринадцатого января. Этот год стал первым из сотен грядущих, которые мы проведём вместе, и я беспрерывно размышляла, как исполняются такие мечты, когда ты совсем рядом: ведь я могла гладить его круглые сутки, в которые он, родненький, станет старше на год, и ночью я буду касаться его повзрослевшего; я могла купать его на клеёнке долго-долго, и всё на свете – шампунь его сатиновых волос, которые бы я в тот же день постригла, гель для тела, что не щипит даже закрытые глазки, – были бы парфюмированы точно как волшебное маслице. Но ещё осенью я стала готовить кое-что.
Читать дальше