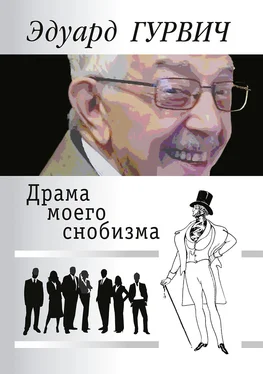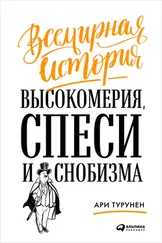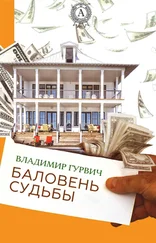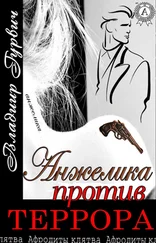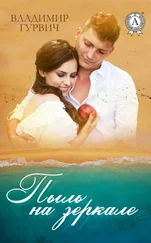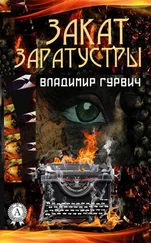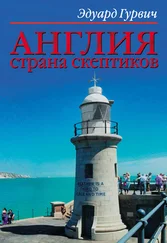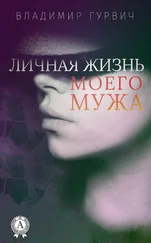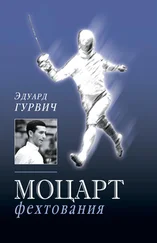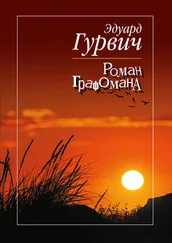Но то было впереди. Пока же для меня «Сноб» выглядел забавным с его интернетной лексикой. Осмысление терминов а ля файл-профайл шло у меня туго. В моём скудном интернет-словаре слово забанить почему-то заучивалось как забабанить, пиариться выворачивалось в… пиявиться, или даже яриться. Я плохо справлялся с техническими сложностями. Тот, кто тут банил и пиарился, использовал навыки прежнего московского Салона. Им, бессребреникам, в именитом клубе снобов теперь хотелось отметиться рассказами о своём свободолюбии и мужестве в схватках с Режимом, мудростью и прозорливостью. Их, как и в советские времена, занимал престиж, который был вместо денег. Этот самый престиж они и выставляли в своих эссе, его рекламировали, им торговали, обмениваясь всем, что держала избирательная память, что хранилось в рукописях, в архивном хламе. Ощущение недооцененности подогревала амбиции, делала их неразборчивыми и злопамятными. Бывшие диссиденты, оказавшись в эмиграции, к концу земной жизни наперебой выставляли свои эссе под заголовками: «На смерть критика Икс», «К столетию поэта Игрек», «К юбилею писателя А.», «Памяти диссидента Б.»…
Остававшиеся в России обычно помирали раньше выбравшихся в заграницу. И выходило так, что эмигранты, получив некую фору, со своими некрологами грелись в тени усопшего, сообщали, что были с ним однокашники, дружили. Доверять их воспоминаниям столько же оснований, сколько запискам Пушкина, использовавшим газетную утку о первом представлении «Дон Жуана», будто «знаменитый Сальери вышел из залы, в бешенстве, снедаемый завистью». В дневниках Поэта, впрочем, я нашёл также, что «зависть – сестра соревнования, следственно из хорошего роду». Не из хорошего, осмелюсь возразить…
Несбыточно ярко из памяти выпрыгнуло эссе-некролог в «Снобе» под рубрикой «Лучший материал» на смерть критика Льва Аннинского. Оно показалось мне родом непредумышленного возмездия: усопший печатал свои статьи в «Новом мире» и в «Октябре», а потом посмеивался – мол, и там, и там ругали; он со скепсисом принял Перестройку, Гласность, а про распад Империи кокетничал: мол, всё это почему-то не было для меня неожиданностью. Его позиция в 70-х и 80-х – размышлять, ставить вопросы, но не отвечать на них – вполне устраивала власть. В мировоззренческой каше Аннинский объявлял себя атеистом, но поучал: «Надо вовремя прочесть Евангелие. Во-время! Я очень поздно прочел… Это святой, сакральный текст. Эти тексты носят сакральный смысл, потому что они намолены». На Первом канале российского ТВ Аннинского представляли философом, критиком, писателем, мыслителем. Живой классик! На самом деле, он плутовал со зрителями: «Сначала был советским, потом антисоветским, а теперь синтетическим… Со Сталиным мы консолидировали страну и выиграли войну. Проза Ерофеева, если можно так выразиться, сперматоцентрична: всё есть сперма. Проза Сорокина, зацикленного на еде и определённых отправлениях, сводится к тому, что мир состоит из еды и дерьма. Проза Пелевина – наиболее из них талантливого – сводится к тому, что всё есть кокаин». Словцо «гнусно», «гнусность», думаю, приятно оживило бы страницы скучноватой биографии критика Аннинского с его деятельной и говорливой мыслью. Но что ему оставалось, коли решил: его место в России, только в России и при любых обстоятельствах. Его собрат по перу, и антипод по идеологии, эмигрант Борис Зайцев, думал иначе: «При всей моей глубокой любви к родине, должен сказать, что в данных условиях я не мог бы там быть свободным писателем и человеком. Поэтому при всей, во многих отношениях, горечи эмиграции, я никогда не жалел, что оставил Россию».
Наверное, с определением места в иерархии писателя, да и вообще литератора, после его смерти торопиться не следует. Надо дать поработать Времени. Время судит вернее не потому, что дети умнее отцов, а потому, что Времени судить легче: всякая мелочь исчезает, всякое постороннее отпадает. Гоголь перед смертью кинулся составлять духовное завещание: соотечественник, я вас любил…но умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит. что-нибудь похожее на поученье. Я писатель, а долг писателя. и так далее. Я, к примеру, соотечественников не люблю, но прислушавшись к совету классика, поучать их не собираюсь. А вот сбросить с пьедестала самонадеянно забравшихся на него, считаю обязанностью всякого, кто мыслит литературой, дышит ею и пишет о ней. И не обязательно забравшихся, а и заброшенных случайно историей. Скажем, без того, чтобы почитать что-то из «Улисса», я уже тридцать лет не иду спать. Но боже упаси меня назвать Джеймса Джойса классиком. Экспериментатор, обходящийся с читателем без церемоний, наплевавший на фабулу, форму, сюжет, пренебрегающий правилами, выставляющий тексты без единой точки, запятой, заглавной буквы, абзаца: как бы узнать нравлюсь ли я ему конечно вид у меня был довольно замученный когда я пудрилась и смотрелась в зеркальце но зеркало всегда даёт не то выражение и вдобавок он столько времени на мне орудовал со своими здоровенными бёдрами тяжёлый и грудь вся волосатая в такую жару и ещё ложись под них засунул бы лучше сзади жена Мастянского рассказывала он заставлял её по-собачьи и чтобы высовывала язык как можно сильней. Вот это назвать высокой литературой? Нет уж, увольте. А такого в «Улиссе» – десятки страниц.
Читать дальше