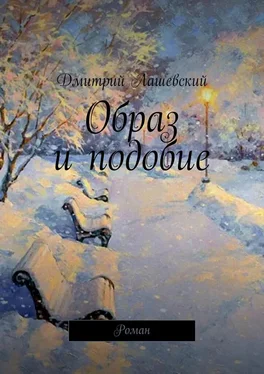Леонид Алексеевич освободился от смородинового куста, погладил сквозь рубашку царапину и побрёл за секатором. По пути он остановился и задумался заново и остро. Да, разноцветная пустота ненаписанного; но что же теперь? Теперь, когда точка поставлена, а мир существует в том же старом обличии. Опять? Это было немыслимо, как и привести в настоящий порядок старенькую дачу. Вот он собрался обрез а ть куст, которому четверть века, с которого двух литров ягод не снять. Зачем?
Солнце нырнуло в лиственничную крону, и как-то сразу похолодало. Леонид Алексеевич надел куртку, прибрал инструмент и поднялся на веранду. Там, на холстине, было рассыпано и уже просохло осязаемое дело. Он, ползая на коленях, принялся складывать картошку в мешки. Получилось ни то, ни сё – три с половиной. Пришлось самую мелочь отсыпать на будущий прокорм, ведь ещё приезжать, и всё равно один мешок выдался больше других. Потуже завязав, Леонид Алексеевич снёс картошку в свою таратайку. Он-то так не считал и вслух не говорил, – это было Юлино слово. От неё не обидное и даже ласковое, оно отодвигало его жизнь за какую-то действительную черту, словно окутывая душу оболочкою эфемерности, иллюзий, слов. Он и сейчас чувствовал себя в такой оболочке: точно пластифицированный воздух, мягко смещающее впечатления вещество, принадлежащее наполовину миру, а наполовину мысли, слоисто отделяло его от собственных движений, от далёких, через улицу, голосов и свиста пилы, от налетевшего ветра. Сейчас, после всё-таки дня работы, он ощущал это прямо скафандром, не обещавшим безопасности, а тяжело вклеенным в мышцы. Через прозрачное забрало скафандра он и наблюдал мир, всегда, значит, потусторонний.
И, как всегда, тянуло снять скафандр и войти. Войти – как исчезнуть.
Он потихоньку, прихватив пакетик и нож, на случай позднего гриба, двинулся к околице, сам себе говоря, что это так, прогуляться. В прошлом году в эти же дни он набрал целую корзину моховиков, лопоухих, вызверевших лисичек и совсем молоденьких подберёзовиков. Нынче – не то.
В лесу было густо пустотой и почему-то теплее, чем на даче, будто лешие из параллельного мира разожгли свои невидимые костры. Если не углубляться, то в другую сторону кусты подламывались с дороги, а дальше, за рельсами, лежал вербный дол, где-то дымчато переходя в болото. Вербы были обсыпаны паутинчатой ватой, тихо шевелившейся без ветра. Видеть эту белую, молочную нежность было щекотливо губам.
Он обошёл болото и поднялся на холм, с которого открывался вид на лесистые горы. Одна из них – с дивоватым названием Шеломка, – прослоенная цветодушьем осени, строгой антиклиналью выступила вперёд, а на её еловый склон, как яблоко на спину ежу, укатилось и застряло бледное и, благодаря какому-то дифракционному фокусу, гипертрофированное солнце. Впрочем, и не яблоко, и не солнце, а сердце туманного существа, плавно опускающегося на землю. Это была лучшая в окрестностях точка заката, и чуть удивляло даже не владение секретом, а то, что больше он никому не нужен. Хотя ведь и одну радугу вдвоём не увидеть.
Лёгкая боль вздувала душу. Всё было родным, привычным, давно вчувствованным, частью осюжествленным, частью неизъяснимым. Если и постоянство, то это было постоянство прощания; но какая-то тревога не давала им насладиться. Так игра, становясь правдой, обнажает клыки.
В небе зашумело, и утиная стая в суетливом разнобое пронеслась над головой, верно, ища ночлега. Затем раздался тонкий свист проводов, и загудело железо. Кажется, совсем рядом, под боком, электричка промчала тысячи жизней.
А если Юля позвонит? Леонид Алексеевич жил несколько по старинке и никак не мог привыкнуть к телефону в кармане. Телефон, конечно, остался на столе, в нелепо массивной юбилейной подставочке. Стережёт неведомое. Раньше точно так же трудно было привыкать к очкам, то есть держать их всё время при себе… Он ещё постоял над волнушками, но передумал и вдруг заторопился. Что-то было явно недоделано или забыто, но мысль о звонке пересилила.
В городе были серебристые сумерки. Мотор работал тихо – или это всё не покидала дачная отстранённость, почти отрезанность. Но с чувством, что между пальцами и яблоком или между губами и словом есть какая-то прочная шелестящая прослойка, – с таким чувством опасно было пробираться сквозь светофоры. Он до того напряг внимание, что в груди кольнуло и глаза заслезились. Картошку иначе домой не доставишь, но удовольствия никакого в этом не было. Если бы не жена, он никогда бы не размахнулся на машину. Была у неё странная мечта – доехать на машине до моря. С его-то умением!.. И вот жена на море – а он?
Читать дальше