Павел сел на кухне, стал читать. Половинка тетрадного листка была исписана с одной стороны полностью, две строчки переходили на другую сторону; видно, отцу хотелось, чтобы письмо не показалось коротким: скажут, в кои-то веки собрался, а написать ничего не написал. Из письма кроме обычных слов о родне Павел выяснил, что у отца весной был инсульт и что два месяца он пролежал в больнице и теперь пишет левой рукой, потому что правая сторона у него отнималась и рука теперь «плохо слушается» . А ходит он теперь с бадиком, и то недалеко. Павел дошел до слов: «привет внучке и жене Валентине» и, отложив письмо, задумался, глядя, как жена крутится у плиты.
– Ну и чего он там пишет? – Валентина отошла от плиты.
Павел кивнул на письмо:
– Инсульт у него был. Говорит, лежал в больнице.
– А-а… – сочувственно сказала жена. – Ну и как он теперь?
– Да хожу, говорит, с бадиком только.
– А это что за бумага? – Валентина кивнула на другой листок.
– Сейчас гляну. – Павел развернул лист. – Завещание, – прочел он и стал читать про себя. Дочитав, перечитал его еще раз, чего-то не понял.
– И что? – Валентина ждала.
Павел поднял на нее глаза и сказал, как прочитал:
– Сыну моему, Кутову Павлу Ивановичу, и супруге… – Тут он заглянул в листок. – Леонтьевой Марии Михайловне. В равных долях. Все имущество.
Валентина взяла листок из его руки, нашла очки на холодильнике, шевеля губами, прочла. Глянула на Павла через очки:
– Что за супруга – Мария Михайловна?
Павел пожал плечами:
– Не знаю…
Мать Павла умерла пять лет назад. Он успел съездить на похороны, и потом, спустя ровно год, проведал отца. Тот жил один, и Павлу видно было, как сдал тогда отец, похудел, но хозяйство старался вести, как и при матери, даже корову не продал.
– Чего же это он про нее ничего не сказал раньше? Письмо хоть бы написал.
– А чего писать-то. Нам эти письма писать…
– Да, от вас дождешься слов-то. Хоть клещами тяни. Да и отец тоже… Выходит, с полгода как хватило его, да еще женился – и хоть полслова от него. – Валентина присела на стул, через стол внимательно посмотрела на Павла. – А ведь там дом, корова, мотоцикл. А земля какая!
Павел изумился:
– Да? Ты гля, вспомнила все! Сама десять лет не ездила, а теперь все вспомнила.
Валентина поглядела на него, как на глупенького.
– Да, поездишь к тебе на Алтай – без копейки останешься. А я не миллионерша, между прочим, чтоб такие деньжищи проматывать! – Валентина наклонилась к нему, строго постучала пальцем по столу: – А она, между прочим, Мария Михайловна эта, отца-то враз окрутила, если он одним махом на нее все отписывает. Не-е-ет, ты, Паша, давай не зевай!
– Чего – «не зевай»? – Павел смотрел, как она, вытерев руки, достала из шкафа банку из-под чая, стала пересчитывать лежавшие в ней деньги. Пересчитав, с минуту что-то поприкидывала про себя и решительно сказала:
– Давай-ка, Паша, поезжай!
За трое суток, что Павел ехал в поезде, много чего передумалось ему. О чем думал? Об отце. И получалось, что отца-то он почти не знал. Нет, стоило ему закрыть глаза, и лицо отца, и его чуть сутулая фигура стояли перед ним, как на фотографии. А вот фотографий отцовых у него дома не было. Ни одной. Да и в суете жизни отца он почти не вспоминал. А вот как прочел неровные его строчки, представил его стоящим у калитки с бадиком, так словно сжалось его сердце. Жалко как-то становилось отца, и от этого еще больше удивлялся Павел: как-то и не мог он раньше представить, что отца, здорового и сильного, ни разу не пожаловавшегося на свое здоровье или чьи-то обиды; отца, которого он видел каждый день, пока не ушел в армию, можно жалеть. Вот мать – другое дело! Мать ему было жалко. И, оказывается, не только от того, что, бывало, отец по молодости выпивал и, приходя домой, так ревновал мать, что та брала маленького Пашку и его младшую сестренку и уходила к своей матери. Нет, он никогда ее и пальцем не тронул, отец-то, но тарелки бил и страшно скрипел зубами, стуча кулаком по столу. Утром, протрезвев, приходил к теще, но в дом не заходил, молча, с виноватым видом, сидел на крыльце. Мать, помедлив, брала ведра, обойдя его, выходила из дому, шла к колодцу за водой, кормила скотину, а он сидел, держа на коленках его, Пашку, и Людку, гладил их по головам большой шершавой ладонью. И все – молча. Пашка помнил, как у него, маленького, словно что-то болело в груди от этого их молчанья. Потом мать оттаивала. Переделав дела, она выходила на крыльцо с узелком на руке и, поправив платок, глядела на колодезный журавель, вздыхала и говорила, будто бы им, ребятишкам:
Читать дальше
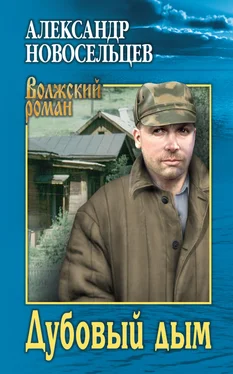


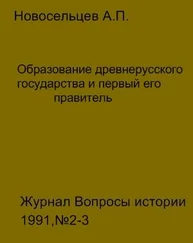


![Александр Бушков - Из пламени и дыма. Военные истории [litres]](/books/396145/aleksandr-bushkov-iz-plameni-i-dyma-voennye-istori-thumb.webp)




