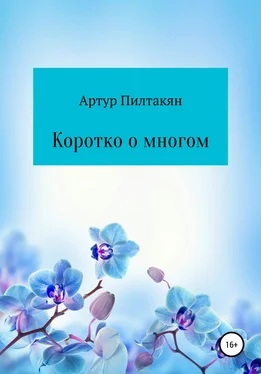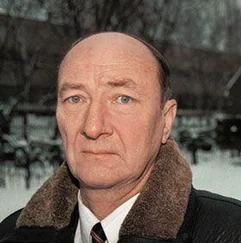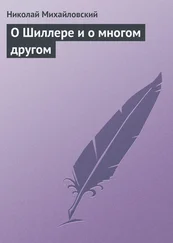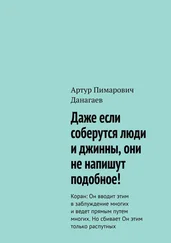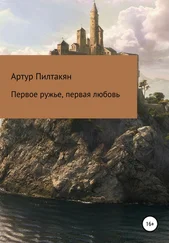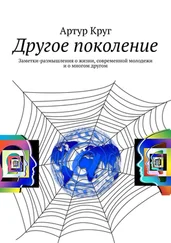Менделеев создал комиссию для нахождения «истины», а поскольку ничего разумного она не сказала, он с огорчением признался, что создал её зря. Вполне разумные слова материалиста Людвига Фейербаха: – «Не бог придумал человека, а человек бога», тоже не подходят для объяснения Спиритизма, как изобретённого людьми. Здесь уместен каламбур: из всего нереального вокруг нас однозначно реален только Спиритизм! С помощью этого короткого слова у живущего человека появляется возможность общаться с давно или недавно умершими родителями, родственниками, знакомыми даже с иностранцами без переводчика! Точно так же, как с приятелем из Америки по дошедшей по почте телеграмме с текстом на бумаге. Это как раз и есть тот подходящий случай о котором попы говорят: – «Не умствуй, а веруй!», объясняя таким образом, что ум человека есть нечто второстепенное, а для познания чего бы то ни было, нужно обращаться только к богу. В Советском Союзе не было никакого запрета на опыты с Спиритизмом, как и на религиозные «процедуры», если всё это проводилось дома, в общежитии, в других не особенно людных местах, а не выносилось на улицу. Как-то Президента Академии Наук Анатолия Александрова спросили об отношении к Спиритизму. Он подумал и вспомнил, что когда его сёстры увлеклись этим, отец сказал им просто: – «Я ещё могу поверить, что вы можете вызвать дух Льва Толстого или Антона Чехова, но чтобы они с вами, дурами, по два часа разговаривали, я в это никогда не поверю». Выражение «общение с духом покойного» казалось бы не логичным, поскольку духа не существует, если только запах, но оно меньше «режет» слух, чем грубоватое: «общение с покойником». Известный писатель, американец Эптон Синклер описывал случай когда сын говорил с умершим отцом: – «Чтоб ты поверил, что это я, твой отец, расскажу тебе одну историю, о которой знали только мы с тобой и никто другой…». Сын вспомнил ту историю и убедился, что говорил с отцом. Пообщаться с ушедшим из этого мира, можно имея минимальный набор «инструментов»: лист бумаги по размеру двух развёрнутых страниц газеты, с написанными на нём по кругу буквами алфавита (русского) и обычная фарфоровая тарелка. Лист кладётся на стол, в центр круга, верх дном – тарелка, с нанесённой на ней карандашом или фламастером стрелкой, которой она «в процессе работы» будет указывать на соответствующие буквы для расшифровки текста. И опять возникает вопрос: как мог кто-то сотни лет назад придумать этот необходимый набор? Подсказка «высших сил»? Нет, и не будет ответа! Дальше я расскажу, как мы, парни и девушки, студенты института, жившие в общежитии, провели свой «удачный» первый «спиритический сеанс». Часов в восемь вечера, приготовив всё как требовалось, мы, восемь человек, устроились на стульях вокруг стола. Протянув руки к тарелке, коснулись, не нажимая, кончиками пальцев её «основания». Мне было доверено вести «собрание». Я предложил начать его с Фридриха Энгельса. Дело в том, что в своем труде «Анти Дюринг» автор высмеивал спиритуалистов и других поклонников черной магии. Задаю вопрос на чистейшем русском языке: – «Господин Энгельс верите ли вы, в такое явление, как Спиритизм?». Тарелка сдвинулась с места, что уже просто чудо! Не убирая рук, чуть касаясь её пальцами, мы «пошли» за ней. Двигаясь удивительно быстро вдоль букв, она указывала стрелкой на нужные и мы прочитали ответ Энгельса на том же русском языке: – «Нет, не верю». На вопрос чем же объяснить происходящее он ответил: – «Вашей нервностью». По просьбе подруг вызвал жившего почти два века назад поэта Жуковского и обратился к нему с тем же вопросом. Мы прочитали ответ: – «Да верю». На наглый вопрос где вы сейчас находитесь, ответ пришел непонятный, разобрать его не удалось. Сидящий в стороне наш товарищ – скептик, крикнул с места: – «Пусть скажет, где я родился?». Исполнили его просьбу, ответ был правильный: в Белоруссии. Но поразительно было видеть, как тарелка сперва показала на букву «с», отошла от неё и, словно подумав, вернулась и снова показала на неё: две буквы «с» в слове Белоруссия, то есть она соблюла правила грамматики! Затем, так же не убирая пальцы с тарелки, мы стали думать, кого бы ещё «побеспокоить». Решили – Пушкина. Три раза обращался я к нему с просьбой откликнуться. Но тарелка была неподвижна. Тогда, мы, не убирая пальцев, опять стали искать кого-ни будь, с кем можно было бы «поговорить». Соображали довольно долго. Вдруг тарелка сдвинулась с места и мы, потянувшись за ней, прочитали: – «Идите к…».
Читать дальше