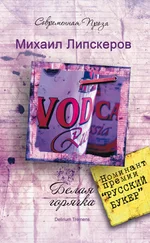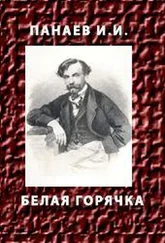Говоря это, Ерема ловко, с помощью кочерги, орудовал торфяными брикетами и газовой смесью в самой пасти камина. Поставил решетку, и огонь за ней взъярился, взвился вверх, тепло волнами стало распространяться по комнате. Приезжий снял венгерку, расправил члены, подставляя под струи тепла атлетический торс, красиво вылепленную рано поседевшую голову, небольшие, с тонкими артистическими пальцами руки.
Уже в дверях, Ерема хитро сощурился и произнес: «А еще там две дамочки-с, очень оне хотели к вам пройтить…».
Дверь за Еремой закрылась. В комнате становилось жарко, и приезжий, притушив лампу, раздвинул портьеры на окнах и прижался лицом к холодному стеклу. Окно, к которому он прислонился, выходило на проезжую улицу перед гостиницей.
Внизу под окном прохаживались, куря и разговаривая между собой, молодые и весьма активные господа, в которых легко можно было распознать репортеров или «газетчиков», как сказал Еремей; один из этих суетливых, мало приятных господ сновал взад-вперед вместе со своим складным треножником для фотографической съемки. Было впечатление, что господа репортеры чего-то или кого-то ждут. Он поежился. Слетелись по его душу. Понятно, что их сюда привело. С силой задернул портьеру и, хромая, подошел ко второму окну, глядящему прямо на Михайловский замок. Мысли потекли невеселые.
Совсем скоро ему придется давать показания в Сенате по делу о «сношениях с лондонскими пропагандистами». Вызов в Сенат – и есть главная причина его нынешней поездки, иначе что бы привело его зимой в этот снежный промерзший город? Что там впереди? Чем обернутся его показания и что решат господа российские сенаторы? Герцена знал он еще со студенческой юности, был с ним в отношениях дружеских, переписывался, ездил к нему в Лондон навестить, последний свой роман о Нигилисте писал в его компании на острове Уайт. Много лет тому тот даже выходил его в Париже, заболевшего какой-то чудовищной болезнью, окрещенной им холерой и оставившей после себя страх, что когда-нибудь она придет снова. Тогда Герцен, волевой, по-бычьи упрямый, борец по характеру и повадкам, его спас – своим присутствием, уходом, уверенностью в счастливом исходе. Сейчас обвинение в близости к «лондонскому пропагандисту» может его погубить – обернуться тюрьмой, Сибирью, потерей всего, ради чего стоит жить. Нет, нет, он ни за что не отречется от старой дружбы, но правда и то, что революционером он никогда не был и спасение видел исключительно на пути науки и цивилизации. У них с Герценом разное видение будущего России. Он, с младых ногтей вскормленный Европой, был бы не прочь, если бы его страна не спеша, постепенно, усваивала западные уроки. А такие, как многоумный Александр Иванович, как бородатый, мало симпатичный Огарев, как кипучий Мишель Бакунин со своими завиральными идеями, – они торопят наступление хаоса и кровопролития.
Последнее время ему все чаще мерещится тюрьма – не та тюряжка, куда он был водворен, по высочайшему приказу, за статью на смерть Гоголя и где провел тягучий месяц, за которым последовала ссылка в Спасское, – а одиночный каземат Петропавловки, смрадные нары Мертвого дома, решетки, кандалы, звероподобные пьяные надзиратели… Все это было реальностью в той стране, где он сейчас находился. Это называлось путь писателя. Из современников по нему десять лет отшагал мятущийся христианин Достоевский, сейчас идет пуританин и умница Н.Г., в Петропавловку упрятан еще один критик-гений – Писарев; только чахотка, вызвавшая раннюю смерть, спасла от каторги пророка Белинского и колючего, милого сердцу Добролюбова. Его тюремный месяц с обедами от мадам Панаевой и шампанским, распитым с жандармским капитаном, – райские кущи в сравнении с этими судьбами. И однако, он бы не хотел повторения даже этого тюремного опыта. Тогда, оказавшись в Спасском под надзором полиции, без права выезда в столицы, он почувствовал, что жизнь кончена. Что он никогда больше не вырвется из клетки, никогда больше не увидит ее.
Вот она, Россия. Под жернова властей попал даже он, умеренный либерал, осмелившийся высказаться. Выражение «умеренный либерал» почему-то стало крутиться в его мозгу, что-то в нем не соответствовало его натуре.
Да, он действительно умеренный либерал; монархия, по типу английской, освобожденная от своих безобразных крайностей, его бы вполне устроила. Но – и в этом парадокс – при всей своей умеренности и при всем уповании на гомеопатические средства и постепенные преобразования, революционерам он явно сочувствует. Они ему интересны, в них живая жизнь, а не дружининская мертвечина, к тому же, он видит, что несмотря на их сегодняшнюю малочисленность, победят – они. Ведь вот и Нигилиста своего он писал совсем не в осуждение, как подумали некоторые, писал с удивлением и восторгом, с мыслью обо всех этих добролюбовых, мальчишках, странных, диковатых, ограниченных, многого не понимающих, но цельных, мыслящих, верных зову сегодняшней жизни.
Читать дальше