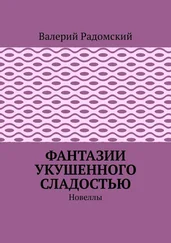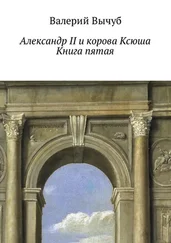Рысь исчезнет, как всегда, незамеченной – только что была и шипела гадюкой, и – уже нет её, только едва заметные следы на снегу. Четверо душеохранителей замрут истуканами с пламенными языками. Волошин, крутя шеей – цела ли, заодно и разомнёт плечи, подавая руки вперёд-назад. А взгляд на волков – из всё той же бездны.
– Они вас не тронут, – успокоит Душа. – Вы ещё не сделали зла, которое уже невозможно передумать.
Волошин даже соглашательски поморщится. Поднимет шапку, ударит ею о колено, затем поднимет «Макаров». Его взгляд наконец признается в слабости воли, не сумевшей перетерпеть любовь к женщине с лучистыми глазами ради её же блага, но рука решительно взлетит вверх и все, оставшиеся в обойме, патроны влетят в Душу. Только после этого память напомнит ему далёким эхом, что однажды он уже ткнул в него стволом дробовика – и снова конфуз!
– Вот так и становятся мертвецами! – услышит капитан, а разгрызающую боль почувствует…
(Не зови смерть к другим – и к тебе опоздает! Не желай в сердцах боль – и тебя обойдёт!
Промерзшее до фиолетовой синевы бездыханное тело начальника краевого отделения полиции посёлка Кедры Макара Волошина найдёт обходчик пути, спустя два дня. Хотя то, что осталось от капитана – если и тело, то не для сердобольных глаз. Именной «Макаров» вмёрзнет в широкую ладонь, обойма пуста – шатун!.. А кто ещё, кроме медведя, мог сотворить такое?! …И в это поверят даже кедрачи)
Выйдя к дороге, что километрами убегала к Кедрам, Зою тревожило лишь время – поселковый длинномер с бортами, загруженный углём, должен был вот-вот подъехать, – а успокаивали стрелки на часах: внезапное появление Макара, разговор с ним и его пальба из пистолета её не задержали. И в комнате, и здесь, на обочине, она слышала и слушалась своего материнского сердца. Долгие годы вина перед сыном изматывала её всяко и наконец-то в ней отважилась на то, чтобы получить хотя бы прощение повзрослевшего Дмитрия, поэтому и торопилась перед ним повиниться, как можно скорее. Вина перед Макаром её тоже томила, но не угнетала – к нему она не вернётся. Полюбить его сильнее, чем она ненавидела саму себя, молодую и легкомысленную, за единственную близость с Владленом Барчуком в экспедиции, не смогла, и незачем их любовь терзать в душах. В чём-то Макар даже прав…
Время неслось снежной пылью впереди длинномера, а Зою понемногу покидала уверенность, что она будет понята сыном и прощена. Таяла и решимость внезапно и убеждённо появиться на пороге дома Барчука. Отвлечься разговором с болтливым водителем тоже не удавалось. Двигатель зудел осой, угодившей под занавеску на окне, но серповидное жало в замученном годами без радости сердце матери не было воображаемым и обжигало болью.
Утро давно и далеко пробралось в тайгу. Солнце колющимися отблесками обгоняло длинномер, в кабине – тепло, словно оно и согревало. Тёплые слова также наполняли Зою – она разговаривала с сыном. Вспоминала: «Глаза её…, у Митеньки!». Мамины глаза! Слышала даже его слабенький, ещё птичий, голосок, а весной ему будет уже семнадцать!
Непросто было ей жить рядышком от него, и кем? …Женой начальника полиции. Жутко мучительно! Потому и ушла от Макара, любя его, но …сбежала чужой тёткой от родного сына. И стало ещё хуже – хоть виделись иногда! Не всегда он ей улыбался её же глазами. Не удивительно – стала только знакомой ему, только и того, а жить-то как …этой знакомой ему тёте?! Ух, как колотилось сердце, когда сынок отводил от неё утомлённое бесстрастностью лицо, уставший от сочувствия, которое лишь напоминало – родился с ногами, да так на них ни разу и не стал. А стать на ноги, хотя бы шажок-другой сделать, о таком и мечтать больно. И ему самому, и ей, и отцу.
Чем ближе было до Кедр, тем вина матери стряхивала с себя и отвагу, и решимость, как это проделывает резвящийся ветер с боярышником зимой: только что – белый, как тут же – густо-красный. Точно кровью окроплённый. И тому, кто не чувствует за собой вины, кустарник радует глаза, а Зое смотреть на него – наказание! Как и видеть первые избы и каменные дома, усердно коптившие гарью нависшее над посёлком давящее небо – а себе, разве, можно простить, что родила жизнь, убогую и потому обречённую на жалость? Понимание, да что оно даёт, это людское понимание в чужих глазах, когда родные-родненькие глаза сына не видят в них восторга им!
– Останови здесь! – будто кто-то другой за Зою попросил водителя.
Читать дальше
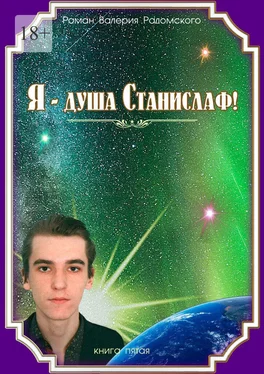
![Юрий Москаленко - Император по Случаю. Книга пятая.Часть первая [СИ]](/books/26646/yurij-moskalenko-imperator-po-sluchayu-kniga-pyataya-ch-thumb.webp)