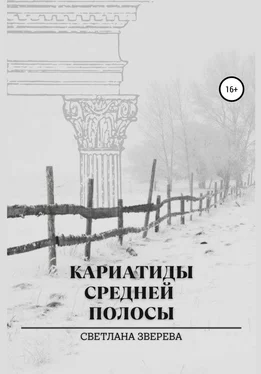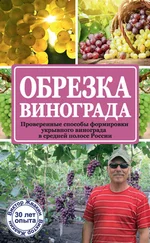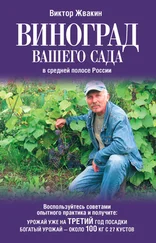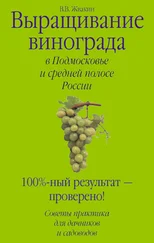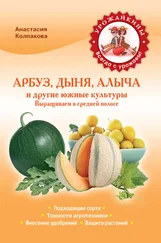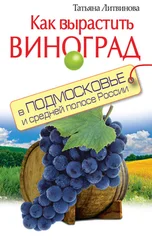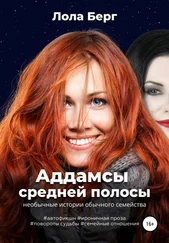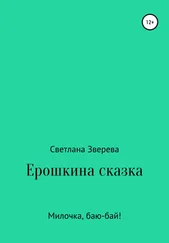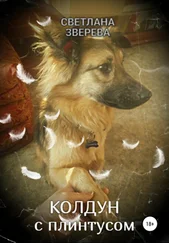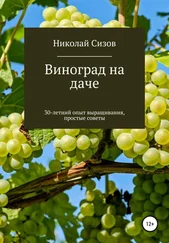Я стояла и водила утюгом по новому темно-синему тёплому халату. Слева от меня – в другом углу комнаты, под зеркалом – бабушка Маша с закрытыми глазами сидела в привычном положении. Надо мной висели старинные иконы, купленные еще прадедом моей бабушки Иваном. Они потемнели, оклады на них помутнели и вытерлись. Сегодня я заметила, что лампада под ними была зажжена.
Баба Дуня подошла и сказала, что этот синий халат был сшит моей бабушкой, её двоюродной сестрой, Инной. «Да, – ответила я, – сразу видно её шов – качественно».
Потом сели пить чай вдвоём. Чаёвничали обычно вприкуску с конфетами или кусочком сахара из маленьких разносортных чашек с блюдцами.
Помню, как еще моложавая баба Маша любила пить из блюдца. Нальет из чашки в блюдце чай и скребет дном чашки по краю блюдца, собирая капли. Она знала, что я не люблю этого звука, от него как будто зубы сводит. Но делала это специально, подтрунивала надо мной. И просить перестать было бесполезно – только хитро посмотрит и тему переведет.
Мы пили чай и смотрели на улицу в окно кухни. Замолчали обе. Задумались. У меня светло внутри, я все последнее время к себе прислушивалась. «Бабушка-то ночью умерла», – сказала баба Дуня.
Старики говорили, что деревянная церковь в Ивановском простояла больше двухсот лет. А каменную построили в 30-х годах 19 века. Церковь строилась на народные деньги: на строительство скинулись 7 деревень. Старая обветшала, смотрелась ужасно: черная от дождей, прогнившие нижние бревна, кое-где залатанные. Того и гляди прибила бы кого-нибудь на крестинах или поминках. Купаловские мужики гордились, что собрали деньги. Не барская церковь, их, народная.
Той весной маленький Ваня Медведев с другими мальчишками помогал мужикам таскать кирпичи. Каждая баба, кроме древних старух, которые и ходить-то уже не могли, перенесла по несколько кирпичей в подоле нового фартука. Батюшка торжественно в праздничной ризе отслужил молебен. Прошли крестным ходом вокруг. Лица людей освещала особенная светлая радость. Эта весна сулила новую жизнь, достаток. Каменная церковь вселяла надежду на хорошую сытую жизнь без войн и горя, без голода и потерь. Хоть строительство шло и не быстро, но в несколько лет церковь поставили.
Церковь освятили, как и прежнюю, во имя Иоанна Крестителя, имя которого тесно сплелось с Иваном Купалой. В народных головах древние языческие легенды соединились с православным верованием крепко, не отделишь одно от другого. Илья Пророк в рассказах старух ездил по небу на золотой колеснице, молнии и раскаты грома были его рук делом. А Николай Угодник защищал скотину и хозяйство семьи. К святым обращались за помощью и удачей, как и к древним богам.
Престольный праздник в Купалове и в Ивановском праздновали в июне – в день Ивана Купалы. Традиция широко отмечать и созывать гостей в этот день сохранилась до конца 20 века, постепенно угасая и забываясь. В деревне перед праздником мылись и проветривались избы, выбивались половики, готовили богатые столы. В этот день с утра все шли в церковь на службу. А к обеду встречали гостей. Народу собиралось много: из соседних сёл и деревень, родственники из города. Ходили из дома к дому. Угощались, объедались, хватали лишку хмельного. К вечеру играла гармонь, плясали бабы, пели. Детворе нравилось незлобное настроение подвыпивших взрослых, никто не ругался, не заставлял работать, не бегал с крапивой, не раздавал подзатыльники. Шумно было чуть ли не до утра. Светлые ночи давали погулять и расслабиться уставшим от труда крестьянам. Ночью в избах оставались ночевать вповалку. Некоторые перепившие мужики засыпали прямо в траве. И утром их обнаруживали шедшие за крапивой для свиней и кур бабы.
Медведевы к концу 19 века разрослись. Изба была большая: разделена на летнюю и зимнюю часть. Зимняя часть – большая комната с русской печью, за которой был «бабий кут» – кухня. В избе были полати наверху для ребятишек и молодых парней. Старики спали на печи, хозяева – на широких лавках. Летом молодые ночевали в холодной части, где стояла деревянная кровать с соломенным матрасом. А подросшие ребята могли и на сеновале уснуть.
Большой крытый двор, разделенный с избой просторными холодными сенями – «мостом», как говорили купаловцы. На мосту всегда стояли кадки с прозрачной водой. Рядом висел ковш. Вернувшиеся с покоса мужики зачерпывали ледяной свежей воды, не могли напиться. Вода в Купалове была вкусна, но стирать и мыться в ней было одно наказание. Для этого набирали дождевой. Полоскать белье шли в пруд или в бочаг на речке.
Читать дальше