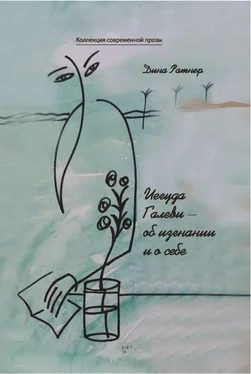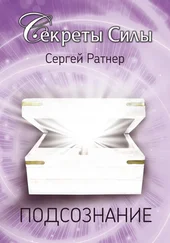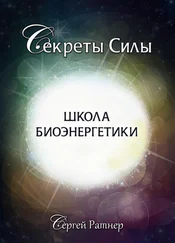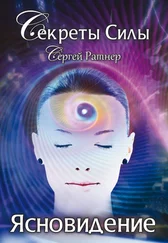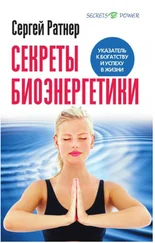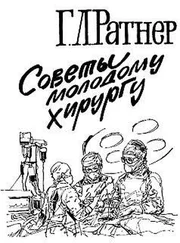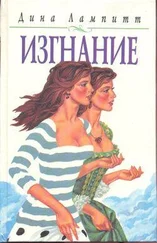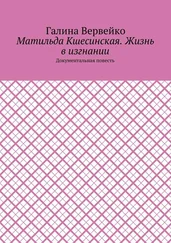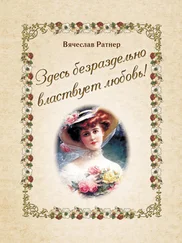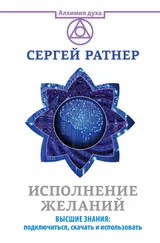Когда в ограниченном пространстве доставшейся мне по наследству, заполненной книгами комнаты чувствую себя обделённым радостями жизни, спешу оказаться на улице. Радуюсь солнцу, деревьям, пению птиц, реке, медленное течение которой наводит на мысли о том, что всё было и всё ещё будет. Выйдет мне навстречу девочка… может быть, она живёт на соседней улице, а на самом деле – из другого, волшебного мира. Она ждёт меня, только меня. Надежды окрыляют, появляется ощущение лёгкости, новизны. Чувствую себя в бесконечности времени и места! И сами собой слагаются строчки:
Слиток золота блестящий я б хотел у солнца взять,
Серебристое мерцанье у звезды б хотел отнять,
Чтоб из трепета и блеска песню-молнию сложить
И красой её искристой тьму столетий озарить… [15] Пер. А. Тарновицкого.
Воображая чудесный мир, где нет обездоленных и нет напрасных ожиданий любви, понимаю: Творец не обещал человеку счастливой жизни. Вот и ибн Гвироль ждал любви. Не всё зависит от желания, если что и зависит от нас, так это старание стать достойным собеседником Творца.
Побродив по знакомым улицам, я возвращаюсь за стол, где меня ждёт рукопись моего соотечественника и современника Бахьи ибн Пакуда «О наставлениях и обязанностях сердца». Будучи раввином, философом, поэтом, Бахья пишет о том, что понимание и истинная любовь к Создателю приходит через понимание Его единства и изучение сотворённого Им мира. «Наука о религии распадается на две части: первая – об обязанностях телесных органов; то наука о внешнем. Вторая – об обязанностях сердец, то есть помыслов; она является наукой о внутреннем». [16] См.: Сират К. История средневековой еврейской философии. Москва, 2003. С. 136.
С помощью подобных рассуждений пытаюсь бороться с влечением к женщине, при этом мечты о высокой, необыкновенной любви часто перемежаются со страстью, зовом плоти. О страсти, неподвластной разуму, читаю у ибн Гвироля:
Амнон [17] Амнон – сын царя Давида. Воспылал страстью к сводной сестре Тамар, притворился больным, хитростью заманил её к себе и насильно овладел ею. Шмуэль II (2-я Цар.) 13:1.
– страдалец я! В бреду Тамар зову.
В её сетях я бьюсь во сне и наяву.
Ведите поскорей её ко мне, друзья!
Прошу лишь об одном: возденьте на главу
Ей царственный венец и золото на грудь.
О, друг мой! Кубок дать ей в руки не забудь!
Чтобы гасить огонь тех дней, когда она
С горящею стрелой спустила тетиву. [18] Пер. Х. Дашевского.
Родители, дабы предотвратить случайные связи детей, стараются рано женить их. А как же мечта? Соотнести бы в отношениях с женщиной чувственное влечение – естественную природу человека – с миром духа. Решение проблемы души и тела пытаюсь найти в рукописях Авраама бен Хии, родившегося на двадцать лет раньше меня, и тоже в Испании. Математик, астроном, он знает несколько языков, однако пишет на иврите, в отличие от коллег-единоверцев, пользующихся арабским языком. Его, признанного учёного, приглашают ко двору христианских королей, нуждающихся в образованных людях. В рукописи «Размышления о душе» бен Хия утверждает, что истинный источник добродетели – наше Святое Писание, а еврейская философия – своеобразное осмысление Торы, где человек, наделённый свободой воли, стоит перед лицом Всевышнего. Философия развивает разум, что помогает отличить добро от зла и приобщиться к Активному Интеллекту.
Эту проблему обсуждают мусульманские, еврейские и христианские мыслители. В рукописи ибн Гвироля «Источник жизни» Бог творит вселенную, соединяя материю с формой, и таким образом переносит мир из потенциального состояния в активное. Другая его поэма – «Царский венец» – о единстве Бога философов и Бога пророков; это философская ода Всевышнему. Творец являет себя человеку посредством разума и откровения; разум даёт возможность отличить добро от зла. При этом душа человека – форма, которая соединяется с материей только на определённое время. До вселения в тело душа живёт в состоянии бестелесности в высших мирах. Через страдания в материальном воплощении мы узнаём подлинную цену пребывания в духовном мире. Однако сколько бы я ни воображал другой мир, который Платон называл миром идей, хочу быть счастливым здесь – на земле. Обителью счастья грезится мне чуть приподнятый над землёй белокаменный Иерусалим, о котором вздыхал дедушка. Должно быть, от дедушки я унаследовал не только сознание присутствия в прошлом нашей страны, но и склонность вживаться в судьбы людей, особенно тех, кому трудно справиться с жизнью. А тем, кому хорошо, не требуется соучастия.
Читать дальше