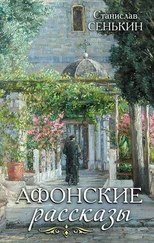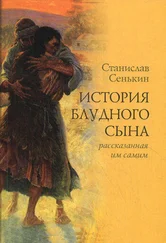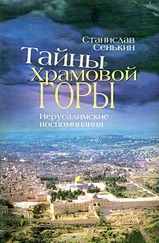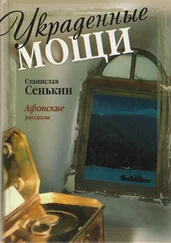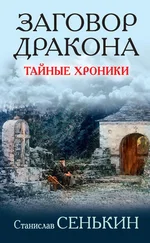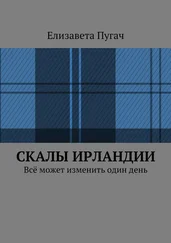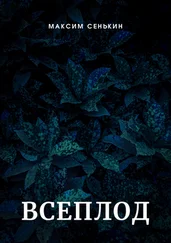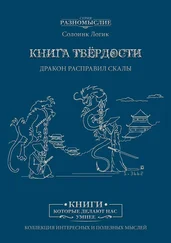Второе, что определяло мою жизнь тогда, – безотцовщина. Родитель бросил нас с мамой, когда мне не исполнилось и трех лет, и с тех пор я больше его не видел. Для подростка это была глубокая и долго не заживавшая рана. Никогда не забуду моих героических походов в баню. Маме водить меня, достигшего семилетнего возраста, в женский день стало уже невозможно, и я ходил в мужской день самостоятельно – мама доводила меня до бани, а потом терпеливо ждала на улице – обычно коридор был заполнен донельзя жаждущими омовения. Помню, как был для меня страшен шипящий кран горячей воды, как тяжело было стаскивать из-под него полную почти кипятка шайку, часто в раздевалку я выходил недомытый, в мыле, пока какой-то дядька не объяснил, как надо мыться: сначала вымыть дочиста голову и забыть о ней, потом намыливать одну руку, другую, потом ноги, потом грудь и т. д. Это была наука! Но порой мужики в раздевалке шутили: опять не домылся, глазки-то черные! Из-за безотцовщины так и не исполнились горячие мальчишеские мечты: иметь велик с мотором, выстрелить из настоящего ружья, сходить с отцом в ночное, лежать уютно в лодке и смотреть в бесконечное звездное пространство. Третья особенность моей детской жизни – повальное пьянство в городе, во дворе, в семье. Моя бабушка (а я многие годы жил с ней, точнее, с ее сестрой – моей крестной) работала сторожем на ликеро-водочном заводе, и поэтому дома «праздник жизни» никогда не заканчивался. Тогда-то я невзлюбил советскую власть. После того, как веселые гости расходились из нашей кухни, по радио, которое вещало в режиме нон-стоп, в полночь звучал гимн Советского Союза, первые такты которого и до сих пор мне напоминают провал в бездонную яму. Задремавшая к этому времени крестная просыпалась, слезала с печки и выключала свет в моей комнате как раз в тот момент, когда я дочитывал книгу до самого интересного места. Посему на гимн у меня выработался условный рефлекс, как у собаки Павлова на удар током.
Несомненно, книги были главной отдушиной в моей жизни. Я читал всегда и везде, особенно любил лежать на высокой крыше сарая или в особом гнезде, которое устроил из досок в развилке развесистой березы. Голубые томики Жюля Верна, розовые Вальтера Скотта, пестрые Фенимора Купера, сиреневые Джека Лондона, сборники «На суше и на море», пиратские романы о капитане Бладе и ему подобных отважных героях заполняли мое существование. А восхитительный роман Штильмарка «Наследник из Калькутты» и бессмертный «Остров сокровищ» Стивенсона!? Карты этого острова я рисовал непрерывно, все усложняя и усложняя их! Я изрядно скучал на уроках истории – учебник я прочитывал в первый же день, как только покупал его в конце августа в магазине со странным названием «Когиз»… да и вообще знал историю значительно лучше учительницы, дерзко порой поправляя ее, как ныне делают студенты, проверяя сказанное профессором по Википедии, которая, как известно, врать горазда…
Были еще два обстоятельства, определивших мою дальнейшую судьбу. Первое – это Слобода. В километре от моего дома, на противоположном берегу речки Серьи (ославянившейся в Серую) возвышался Успенский монастырь – бывшая Александрова слобода, опричная столица Ивана Грозного, место некогда страшное, лютое. Многое там было достроено позже, в XVII–XVIII веках, но главные соборы и колокольня сохранились со времен царя-убийцы. В Троицком соборе, возле медных врат, украденных Иваном из Великого Новгорода во время кровавого погрома 1570 года, меня крестили в старинной каменной купели, потом сюда меня приводила крестная на богослужения, которые совершенно не волновали меня. Зато, стоя в храме, я вспоминал страницы «Князя Серебряного» и думал: «Вот тут стоял князь, а тут – Малюта Скуратов, а вон оттуда выходил сам царь». Порой даже казалось, что царь Иван присутствует здесь, особенно в сумерках. Иногда со свечой в руке я поднимался по узкой лестнице на колокольню, с площадки которой якобы слетел на кожаных крыльях отчаянный русский мужик, и видел над собой низкие, покрытые копотью потолки. Наверное – думалось мне, – это копоть еще от факелов времен Ивана, который тоже по этим же высоким и стертым каменным ступенькам залезал наверх трезвонить в колокола. Огонь свечи колебался от сквозняков, дрожь страха и восторга пробивала меня в те минуты. А еще вместе с приятелями мы искали следы подземного хода из Слободы к реке (нет в России ни единого известного места, где не бытовало бы предание о тайном подземном ходе). Нас вела мечта прославиться на весь мир: найти, подобно героям романа «Бронзовая птица», клад, либерию – библиотеку Ивана Грозного, – ведь считалось, что она где-то тут закопана. Наши раскопки обычно были недолгими – хозяева огородов, окружавших монастырь, гнали нас в шею с нашими лопатами и ломами. Но все-таки раз нам крупно повезло – мы выкопали полуистлевшую рукоятку сабли. И тогда меня будто током дернуло: буду историком – и никем другим!
Читать дальше
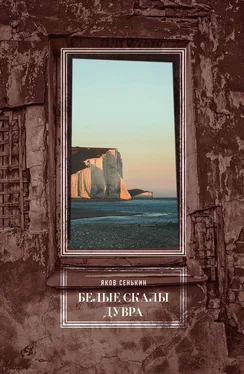

![Станислав Сенькин - Заговор Дракона. Тайные хроники [litres]](/books/29900/stanislav-senkin-zagovor-drakona-tajnye-hroniki-thumb.webp)