Ненастное, невидимое небо. В свинцовом океане дрейфует паром. Некогда роскошное судно больше походит на списанный дебаркадер. Его редкие пассажиры почти не показываются на палубах. Даже в трюме с пропиленным для рыбной ловли дном не всякий час можно застать фигуру, сидящую с удочкой над черной водой. Иногда по ночам текучую бездну пронизает зыбкий свет. Он идет из тех мест, где в тучах над океаном возникают солнечные колодцы на обратной стороне Земли. Ложе, подпирающее водную толщу, есть та же вода, сдавленная до плотности грунта. Грунт переходит в базальт, за камнем следует чересполосица магматических и кристаллических сфер, горизонт расплавленного, но твердого железа предваряет чудовищное ядро, и все это, слой за слоем, опять же, есть только разные ступени сгущения воды. Вот почему океан может проводить солнечное вещество даже с заоблачных глубин, которые сопрягаются с акваториями на другом краю света. Человеческое тело, подобно планете, состоит из воды разных плотностей – отличие в том, что, когда свет пронизает океан, это преломленный свет солнца, а когда свет пронизает человека, это сигнал его сокровенного существа, не то растворенного, не то утопленного в нем. Люди видят такие сигналы отраженными и теряют интерес к жизни с утратой тех, в ком отражались. Считаные единицы, что принимают внутренний свет без сторонней помощи, бывают слишком захвачены им, чтобы ценить собственное бытие. Несчастные одиночки доживают свой век без этого огня, который прежде поддерживали при помощи близких, и уповают на подводные зарева. Кто-то совершает тайные омовения в трюме, кто-то бубнит морские гимны, и все грезят о том, как погружаются в ночную пучину, достигающую плотности света с дневной стороны.
Из нынешнего будущего я получаю в свое допотопное детство крохотный, на пару слов, скриншот моей статьи о каком-то фильме. Сияющая зернистая структура послания занимает меня, разумеется, куда больше, чем его темный смысл. Цветные искры, служащие строительным материалом высказыванию, преисполнены тайны. Печатные знаки, что питаются этим праздничным шумом, не стоят его так же, как не стоит ломаного гроша выложенное алмазами междометие. Пустая фраза: «Он – проповедник истин, о которых не знает ничего, кроме их грамматических форм», – предстает сечением фейерверка, снопом культей, косной проекцией нескончаемого божественного потока.
В домодедовском аэропорту есть автоматические двери, ведущие не на привокзальную площадь, а в необозримый, похожий на амфитеатр подземный горизонт. В сущности, это та же Москва, но данная – как видится она, должно быть, своим стремительным столоначальникам – со стороны, ладно сбитым парком римских архетипов. Низкое небо усеяно светилами, как потолок в планетарии. Кремлевские звезды смотрятся филиалами действующих солнц. Приземистый памятник Пушкину на Тверской упирается макушкой в небесную твердь и зеленеет по кудрям холодным бликом Венеры. Мраморные мостовые перемежаются цветниками и обставлены нарядными зданиями, состоящими сплошь из витрин. Но чем дальше, тем заметнее делается кривизна горизонта, и понимаешь, что идешь не просто вниз, а по туго скрученной поверхности спирали. Кварталы разрежаются и темнеют. Дома как будто сплющиваются. Небо опускается, так что среди звезд на нем виднеются провисшие жилы трубопроводов, и, подобно Пушкину, в него запросто упираешься головой. По душным пустошам окраин передвигаться иначе как на четвереньках нельзя. Из живых существ тут попадаются только мокрицы. Проросшее сталактитами пространство сходится глухой щелью, и в дальнем углу ее, в так называемой мертвой точке – едва дотянуться вытянутой рукой, – торчит вороненая чека с тонким кольцом. Это приз.
Бью кого-то по морде и сам теряю лицо.
Я и та, кого люблю больше жизни, упиваемся друг другом на море, кочуем по прибрежным гостиничкам. Но все летит к черту в оранжерее, где, отдыхая от любовных забав, мы прохлаждаемся в кущах. Нас растаскивают. Так я не только узнаю, что у меня есть враги, но узнаю их в лицо. Они разговорчивы, можно сказать, вежливы, нападают по очереди. Бьют страшно, до головокружения, и при каждом слове, ударе я как бы таю – меня бьют за нее. Оказывается, с самого первого дня знакомства мы были не одни, и пока мои объятья не мешали ей ублажать кого-то еще, пока я «не лез по головам», то был терпим, но стоило мне «со своей любовью» замахнуться на прочих, как я утратил право равного. Она привела меня в засаду, которую я сам и устроил. «Любовь – слабость», и это не просто слова, это мое наставление дурню, из которого я выбивал дух в свое время.
Читать дальше

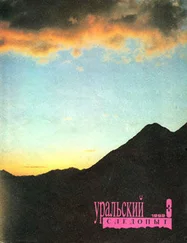
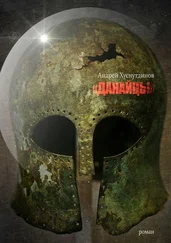


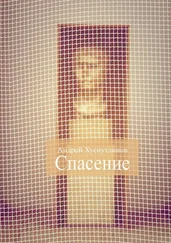

![Андрей Хуснутдинов - Дни Солнца [litres]](/books/384354/andrej-husnutdinov-dni-solnca-litres-thumb.webp)

