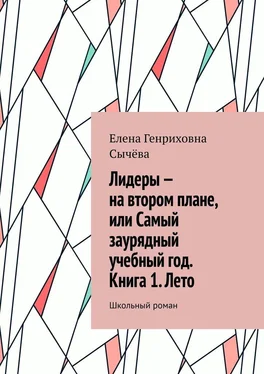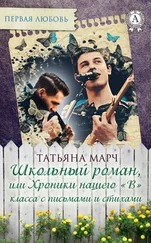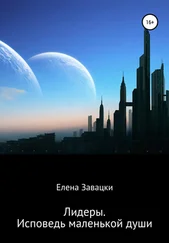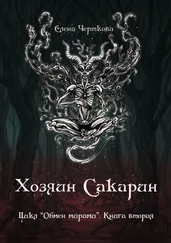Сергей погиб через пять месяцев после нашей свадьбы на газопроводе, куда он уехал на заработки. Темная, но, к сожалению, не единственная подобного рода история: вышел парень из вагончика покурить и пропал, нашли его в лесу в километре от передвижного городка газовиков почти через год. Через месяц после исчезновения мужа я потеряла и преждевременно родившуюся дочку. И вот тут повесть мне помогла – не дала сойти с ума. Я работала по ночам, чтобы горел в окне свет – вдруг Сережка откуда-нибудь появится (он еще числился пропавшим без вести, и у меня теплилась очень-очень слабая надежда: может, все-таки жив?)…
Через некоторое время я сочла, что повесть окончена, решила показать одному из местных журналистов, тот прочитал, одобрил и посоветовал съездить в Союз писателей. Так я познакомилась с воронежскими литераторами, с молодыми (с которыми я посещала занятия молодежного литературного объединения) и с мэтрами, чьи книги читала еще в детстве. Занятия литобъединения проводились раз в две недели (ради такого мне пошли навстречу в Доме пионеров, где я тогда работала, – позволили уроки на четверг не ставить, так что в Воронеж я ездила регулярно). Руководителем нашего объединения был тогдашний редактор прозы из областного журнала «Подъем» Валерий Алексеевич Баранов (чуть позже он ушел на сугубо творческую работу), киносценарист по образованию, ученик знаменитого Михаила Михайловича Ромма. Он сказал, что у меня «сценарное мышление» и что моя повесть, по сути – готовый сценарий, немного специфических переделок – и можно снимать, а школьная тема очень ценится, и если бы нашелся знакомый режиссер… и так далее… Лично у меня знакомых режиссеров не было, но вот у мужа двоюродной сестры, который играл в известном ансамбле «Добры молодцы», снимался в фильме «Чародеи» (в эпизодах с приехавшим на праздник ансамблем), участвовал в работе над фильмом «Розыгрыш» («Добры молодцы» в этом фильме исполняют песни, в том числе знаменитую «Когда уйдем со школьного двора»), полезные знакомства могли остаться. Написала письмо сестре, обрисовала ситуацию, пересказала слова Валерия Алексеевича, попутно упомянула, чей он ученик (все-таки М. Ромм – величина, и его ученики просто по определению не могли быть серостями, чье мнение ничего не стоит), естественно, с тысячами оговорок типа «если будет возможность» (я же человек не нахрапистый). Сестра не ответила, письмо пришло от ее мамы. Поскольку, как я поняла, ни сестра, ни ее муж всерьез мою просьбу не восприняли, попыталась помочь мне тетя (она была очень доброжелательным человеком). Правда, единственное творческое учреждение, которое она знала, был Дворец пионеров, где она некоторое время работала, туда она и пошла. Естественно, там ей сказали, что такого вида деятельности у них нет. Через некоторое время, когда я в очередной раз приехала на занятие литобъединения, от младшей тетушки услышала, что звонила двоюродная сестра из другой московской семьи, «кремлевской» (отец этой девушки, муж самой старшей маминой сестры, сотрудник КГБ, работал в Кремле), и, захлебываясь от впечатлений, сообщила, что «тети-Шурина Лена – ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ??? – сошла с ума!!! Ей КАЖЕТСЯ, что она написала книгу!». Слегка офигевшая Валентина (тетей я ее не называла – она была старше меня всего на двенадцать лет) сказала, что я действительно пишу, приезжаю раз в две недели на занятия в Союз писателей, занятия по вечерам, заканчиваются поздно, поэтому я ночую у нее, а утром уезжаю домой – и сразу на работу, так что тут уж она в курсе и признаков сумасшествия у меня до сих пор вроде бы не наблюдала. На это «кремлевская» сестрица протянула: «Ой, ну надо же! Деревенская девчонка – а туда же…». Можно подумать, что головы могут работать только у жителей столицы, тем паче, мамы наших «столичных штучек» родились в том же селе и в той же семье, что и моя, на одной печке сидели. Впрочем, то, что моя повесть тогда не «засветилась», в какой-то степени тоже было положительным моментом: наверное, я сказала бы известное «ай да Пушкин!» и больше не прибавила к написанному ни единого слова, то есть нынешний вариант попросту не появился бы – а он все-таки более яркий.
«Комплимент», аналогичный сестричкиному, чуть позже в мой адрес выдала мама двоих учеников. Поскольку компьютеров в 80-х годах еще не было, и даже пишущие машинки имелись только в организациях и в количестве не более одной-двух-трех штук, то повесть я печатала на работе по вечерам, когда машинку освобождали методисты, а у меня самой заканчивались занятия в студии. Над душой в ожидании очередного отпечатанного листа постоянно стояло несколько старшеклассников-«технарей» – не каждый день случается наблюдать работу живого писателя, причем, лично тебе знакомого. Эти мальчишки были моими первыми читателями и критиками (очень доброжелательными, кстати, – для них все было «класс!» и «здорово!»). Но поскольку они все-таки должны были находиться на занятиях (о чем им периодически напоминал руководитель объединения Анатолий Иванович, когда они один за другим убегали ко мне в соседний кабинет), для чтения не было подходящих условий – все урывками, на бегу. Один из этих ребят, старший брат одной из моих певиц, попросил «хотя бы „слепой“ экземпляр на несколько дней» домой, чтобы почитать в спокойной обстановке. Парнишка надежный, я была совершенно уверена, что папку он не потеряет, не измажет, перепечатывать не придется, поэтому отдала без колебаний вполне нормальный текст – абсолютно не «слепой». Возвращая мне повесть, как и обещал, дня через четыре, мальчик, посмеиваясь, сказал, что его мама тоже прочитала, ей понравилось, только она не поверила, что это писала я:
Читать дальше