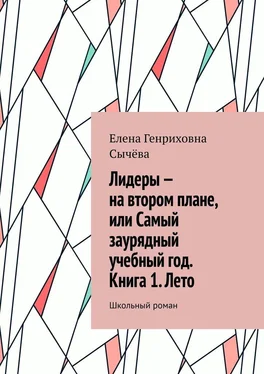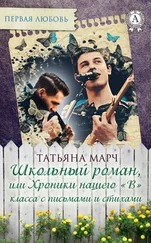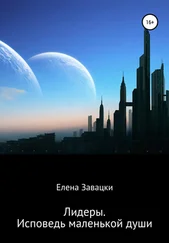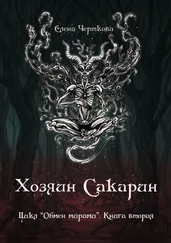Большая часть педколлектива приложила максимум усилий, чтобы я как можно скорее покинула данную школу, прямо костьми ложились и грудью на пулемет кидались – во всей красе проявилось известное «как бы чего не вышло», почему-то все дружно ожидали какого-то невиданного «загула» с моей стороны: я ведь без родителей, «обрадуюсь свободе», «закружится голова от городских соблазнов», да еще «развитая» – о-о-о, это теперь ТАКООООЕ начнется! От меня ждали неизвестно чего (и, главное – неизвестно почему, сами ТАКИИИИЕ были в тринадцать лет, что ли? Известно же, что каждый судит о других в меру собственной испорченности!), а меня вот, вопреки всем прогнозам, никуда не тянуло – даже в кино на дневные сеансы, не говоря уже о вечерних спектаклях в театрах (дискотека для меня отпадала сама по себе – не интересовала), мне было страшно ходить по улицам даже днем, я шарахалась от прохожих мужского пола (почему-то все встречные парни и подростки, да и многие взрослые дяди, примерно ровесники моему отцу, считали своим долгом сказать какую-нибудь пошлость), страшно было ездить в транспорте (вдруг не успею выйти на своей остановке, а автобус куда-нибудь свернет) – какой тут, к черту, «загул»? Я была учительским ребенком, собственная семья и педколлектив всегда воспринимались мной как «двоюродные», поэтому была в шоке от враждебного отношения со стороны новых учителей. Хотя были в этой самой восьмой школе и хорошие люди, которых вспоминаю очень тепло. Недоброжелательное отношение взрослых, объединившихся против девчонки, и сподвигло на творчество (как любого человека, чувствующего себя одиноким). Писать было легко, на глазах и при моем непосредственном участии в разные годы возникало множество конфликтных, проблемных и драматических ситуаций, так что ничего выдумывать не нужно – сплошные «зарисовки с натуры» (хотя и литературно обработанные), в том числе такие, что и поверить трудно. Возможно, кто-то сочтет наглостью тот момент, что семиклашка взялась показывать мысли и рассуждения взрослых людей, педагогов, но следует учесть, что я родилась и выросла в учительской семье, где учителей среди близких родственников не менее полусотни (а может и больше – точного количества не знаю до сих пор, наверняка кто-то из детей и внуков тех, с кем связь потеряна, продолжил семейную традицию), разных специальностей и разного возраста, поэтому с пеленок была знакома с самыми разнообразными педагогическими взглядами и точками зрения. Многое из тех споров, которые могли длиться часами на семейных «педсоветах», и рассказов о сложных ситуациях, имевших место в школах, где работали мои родственники, я и использовала в диалогах персонажей-учителей, все легло в сюжет настолько органично, что сейчас даже сама с уверенностью не скажу, какая сцена была написана еще в седьмом классе, а какая позже, когда я уже сама стала учительницей. Было написано довольно много, когда в восьмом классе после первой четверти я ушла в другую школу, двадцать восьмую, и сменила место жительства. Тяжело заболел отец Надежды Яковлевны – дала знать о себе полученная на фронте контузия. Понятно, что в такой ситуации ни моей юной учительнице, ни ее маме было не до чужого ребенка.
Рядом с двадцать восьмой школой находилась школа высшего спортивного мастерства. Ребята, которые там занимались, тренировались едва ли не круглосуточно, и не все они, естественно, жили «в шаговой доступности», многие ездили из отдаленных районов города. При их напряженном графике, когда тренировки были и с утра, и вечером, они просто не успевали бы доехать из центра до дома, сходить в «свои» школы, а потом вернуться в спортивную, поэтому в двадцать восьмой было довольно много «приблудных», которые рано утром приезжали из своего Левобережного или Железнодорожного района, прибегали с утренней тренировки впритык к началу первого урока во второй смене или убегали на тренировку задолго до окончания шестого. Взяли и меня – ну, подумаешь, одной такой «приблудной» теперь станет больше… И даже то, что я живу на съемной квартире, а родители находятся за двести с лишним километров, почему-то тогдашнего директора двадцать восьмой школы Неонилу Александровну совершенно не потрясло. Она только поинтересовалась квартирной хозяйкой, согласилась, что заслуженная учительница, полуслепая пенсионерка, которая нуждается в посторонней помощи, в сомнительные делишки меня не втянет, записала координаты дяди-аспиранта, мужа самой младшей маминой сестры (он жил в университетском общежитии неподалеку), на том и закончилось, даже опекуна с меня не потребовала, как это сделала администрация восьмой школы. Никто меня не пытался загрызть за то, что я не из того «ареала»: моя квартира находилась – о ужас!!! – на территории соседней пятьдесят восьмой школы, математической, в которую, к слову, перевелся из восьмой один из моих бывших одноклассников, и ему тоже было позволено ездить из другого района – похоже было, что только в восьмой школе так ревниво оберегали свои границы. Никого из новых учителей не шокировало то, что я вообще из деревни, к тому, что приехала серьезно учиться музыке, отнеслись с пониманием (в восьмой почему-то считали, что мне это не нужно, и потому старались как можно скорее отправить обратно в деревню), вероятность «загула» не рассматривалась даже при частых пропусках (я в этих случаях днями сидела в фонотеке, и это было не развлечением, а серьезной работой), да и в целом в этой школе обстановка была более здоровой. А вот творчество на некоторое время было забыто. Появились подружки и в средней школе, и в музыкальной – хотя бы изредка ходила в гости, новое жилье было в Центральном районе, появилась возможность чаще ходить в театры, я уже меньше боялась вечерних городских улиц, тем более, от любого театра до дома было минут пять-семь быстрой ходьбы. Но в первую очередь, конечно, нужно было ликвидировать накопившиеся за время учебы в сельской музыкальной школе пробелы – поступление было не за горами: «исправить» руки, привести в порядок знания по теории музыки, много музыкальных произведений мне как будущему музыковеду нужно было знать на слух практически наизусть, а для этого каждое надо было прослушать не один раз, несмотря на объем – симфония, например, в среднем длится около часа, опера – до трех часов (потому и в фонотеке, если уж приходила, сидела весь рабочий день – а он совпадал по времени с уроками во второй смене, по этой причине и занятия в средней школе пропускала). Да еще в девятом классе сломала руку, беглость пальцев восстанавливала очень тяжело, даже в школу ходить перестала в четвертой четверти (вступительные экзамены все равно сдавать надо было на базе восьми классов, поэтому оценки за девятый класс были не очень нужны) – целыми днями сидела за пианино, восстановилась (хоть и не полностью на тот момент) буквально за месяц до вступительных экзаменов, так что неоконченная «нетленка» была заброшена и тихо-мирно лежала в тумбочке – в самом дальнем углу нижней полки. Там она и пролежала почти шесть лет – с начала второй четверти в восьмом классе до окончания мной музыкального училища, а потом, приехав вместе со мной в мое родное село, улеглась на аналогичное место в другой тумбочке – еще на два года. Ну, вот не доходили у меня руки до неоконченной повести, хотя я о ней не забывала, и кое-какие идеи в голове вертелись постоянно. Тумбочку пришлось перетряхнуть, когда я, выйдя замуж и переселяясь на новое место жительства, забирала нужные мне для работы книги и ноты. Муж Сергей, во время сборов больше мешавший, чем помогавший, заинтересовался горой исчерканных листочков в потрепанной папке, быстро просмотрел и как человек кое-что в творчестве понимающий (он учился заочно на факультете журналистики Воронежского государственного университета и, кроме того, писал стихи) сказал, что «смысла не лишено, и стоило бы доработать». Волевым решением новоиспеченного главы семейства черновики неоконченной повести отправились в чемодан с нотами. Мы жили далеко от музыкальной школы, последний местный автобус ехал в нашу сторону в начале седьмого вечера, а у меня уроки были почти до восьми, поэтому за мной муж приходил каждый день. Приведя домой с работы и покормив, Серега с диким воплем, от которого в соседней комнате вздрагивала свекровь: «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ!!!», тащил меня за стол и торжественно вручал тетрадку и авторучку. Часа два-три (а это уже дело за полночь) мы сидели, как примерные детки за уроками – я работала над повестью, он писал стихи или выполнял какую-либо контрольную. Шли уже 80-е годы, возвращались домой «афганцы». И, хоть они не особенно рассказывали о боевых действиях, все равно время от времени у них что-то вырывалось такое, от чего мороз подирал по коже. Сильное впечатление производили эти случайные реплики – и мало какой писатель мог удержаться от того, чтобы не коснуться и «афганской» темы. В связи с этим пришлось передвинуть время действия на десять лет позже, для общего развития сюжета это было не принципиально – проблемы оставались те же самые, даже приобрели большую остроту.
Читать дальше