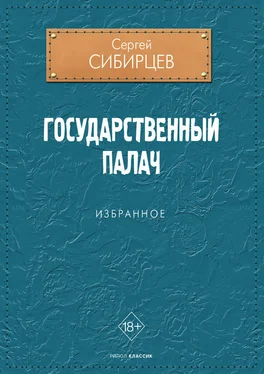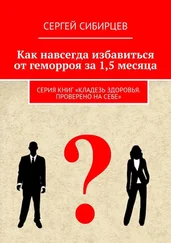Вместо привычных, частью обрыдлых, растрепанных листов черканной рукописи – растрепанная златокудрая женская голова, прикованная нержавеющим платиновым ошейником-обручем к станку. Все еще что-то лепечущая голова моей жены. Моей любимой, которая для меня всё, вся жизнь, весь смысл ее. Над которой я, как истинный скупец, трясусь, не доверяю никому, даже ее матери, оберегаю от подружек, от всего скверного, что творится на улицах столичных, в особенности на «голубом экране», то есть получается – оберегал…
Потому что сейчас по долгу службы занимаюсь членовредительством, то есть профессиональными неширокими, четкими, размеренными замахами отсекаю-четвертую все еще живую, вздрагивающую, смертно-утробно всхлипывающую, уже без одной руки от самого заголенного плеча и полной чувственной ножки, на месте которой ровный ало-сочный срез с алой же кровью, толчками, точно диковинный родниковый ключ, выплескиваемой на занозистый, заматерело-багряный, почти черный от-щип станка-колоды…
– Ди-и-имыча-а! а ка-ак без ноже-е… Ах, некраси-иво-о, Димыч!
И мне странно слышать от жены, что ее беспокоят такие, в сущности, пустяки в ее-то ситуации, как некрасиво, видите ли, без ножки, без ручки. Зачем они ей, мертвые окровавленные обрубки, – ей предстоит через какие-то мгновения остаться вообще без головки ее златокудрой. Странным образом однако устроен мозг этих прелестных женщин…
Отсечение, отделение превосходно ухоженной головы, со струящимися спиралями, словно только что выпущенными из искусных рук модного салонного цирюльника, живописной раздольной гривой распластавшимися по краю моего рабочего станка-плахи, предполагалось через два секущих замаха, через два профессиональных неутомимых движения.
И-и… голова-головушка моей единственной…
В эти чудовищно чудные мгновения я довольно-таки бесцеремонно был отторгнут из властных цепких лап сновиденческого бытия – разбужен золотыми кровавыми бликами недавно обновленных обоев.
Отдохнувший мозг, сердце еще переживали этот очаровательный в своей постоянности сон, а глаза уже ощупывали, примечали, жили в другой – настоящей ли? – действительности.
Не поворачивая головы, я залюбовался повадкой типичного домашнего существа, я затаращился на муху, на рядовую средней упитанности муху, пригревшуюся на золотом пауке обоев в еще холодных, длинных, но каких-то до странности торопливых лучах утреннего, не задрапированного облаками дневного светила.
По всей видимости, моя домашняя муха уже не спала, но дремала, как-то зябко поводя пленками-крылышками, шевеля брюшком, – она ждала моего честного, полноценного пробуждения.
Я не могу отучить себя от одной достаточно скверной, неприличной привычки – по утрам я непременно, точно фанатик-физкультурник, пробуждаюсь в совершенно немыслимую рань. Еще даже профессиональные дворники лишь нервно ворочаются, ожидая тренированным нутром грома будильника, а моя дурная голова, вместо того чтобы позволить натруженному, хронически недосыпающему мозгу вдосталь понежиться в каком-нибудь очередном торжественном сновидении, подает какие-то нелепые солдатские сирены-побудки…
Но случается, что я не подчиняюсь своей натуре и после побудки некоторое время бессмысленно бдю, изучаю какую-нибудь занятную мелочь, вроде той же самой мухи, или фантазирую на тему глупых теней, что притихшие сидят себе по углам, и затем, мягко-безвольной вещью, проваливаюсь в какую-то малознакомую, малозадорную, сновиденческую дрянь, которая невообразимо тянется, тянется…
И, разумеется, после такого ненатурального, вроде бы ненасильственного, «тянучего», полноценного восьми-, девятичасового лежания я встаю полнейшим идиотом. То есть с полнейшим отсутствием аппетита, как физиологического, так и вообще к жизни, которая за окном вовсю уже шумит, и каркает, и чирикает, и гундосит механическими носами. В голове сплошная дамская дурная мигрень, вдобавок физиономия отлежалая, опухшая и раздражительная на весь Божий гудящий мир.
Зато как же обожает моя жена это старинное жмуркино упражнение – почивать, и причем в любое время суток. А если утром ее ничем не потревожить, она проявляется в сладкой томной истоме вплоть до обеда.
Свой сон эта редкая женщина бережет, точно самый натуральный изумруд.
Она лелеет его, точно львица своего недотепу-львенка. Не дай Бог в ее личный выходной потревожить ее сонный покой каким-то пустяком, по глупой неосторожности, – маленький, но едкий скандал вам, то есть, разумеется, мне, обеспечен.
Читать дальше