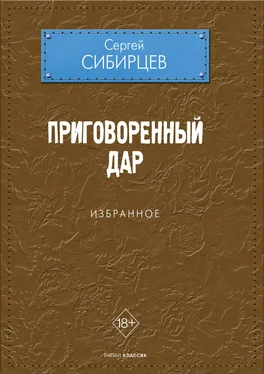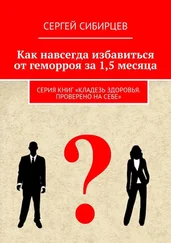В моем же случае все не так. Я привожу в действительность свои угрозы не в аффектации, не под влиянием мгновенной животной ненависти и прочего психического вздора. Я убиваю, будучи в совершенном хладнокровии и здравомыслии. Я не наемный убийца, не киллер. То есть никакие меркантильные соображения не бередят мою душу. Денежный личный вопрос я решаю совершенно противоположным, скорее нечистоплотным способом.
Для меня устранение из этой жизни существа, которое подразумевает себя человеком – это своего рода последнее прибежище, единственная страсть, удерживающая меня в этой жизни, питающая мой дух, что ли. Причем эта несколько странноватая страсть не есть самозабвение, которая поглощает и поглотила все мое существо, мою тоскующую душу.
Эта любопытная неутолимая страсть превратилась как бы во вторую мою натуру, влезла, пропитала все поры моей рефлексирующей интеллигентской души, – стала обыденной рутинной привычкой. Привычкой болезненной и уже давно не приносящей более-менее длительного душевного спокойствия, равновесия, созерцательности.
И все равно я льщу себя надеждой, что все мои справедливые жутковатые деяния – это истинное мое творчество.
Жить талантливым убийцей – совсем не просто…
Но в последние годы радость от блестяще проделанной работы странным образом перестала посещать меня. Вернее, застревать во мне, будоража однообразие жизни миражными, мифическими праздничными блестками и серпантинами. Более того, в моей натуре стала преобладать угрюмость, неприятие и раздражительность, какой-то стариковский мудрый пессимизм, – мол, какая кому разница. Пять или восемь трупов будет в моем личном годовом послужном списке? Не станет от моей работы чище, здоровее, счастливее в этой солнечной действительности. И, следовательно, нужно уйти. Уйти добровольно из нее. Более-менее с порядочной биографией, написавши которую в назидание несмышленышам-потомкам, завещать ее близкому другу.
Не однажды прокрутив в собственных мозгах подобную стариковскую ересь, я не претворял ее в действительность по двум элементарным причинам.
Во-первых, друга, которому я смог бы доверить описание своей истинной творческой биографии, у меня нет, и, видимо, никогда не будет. Всех более-менее близких моей душе существ я собственной волей перевел в иной мир. Загробный, из которого некоторые особенно притягательные, дорогие для моего сердца навещают меня. Навещают со словами благодарности и нежности.
Ну, а во-вторых, я все никак не удосужусь усадить себя за написание мемуарных тетрадей, которых наверняка бы случилось не менее чертовой дюжины.
И потому несколько потосковав, наедине… наедине с единственной своей многолетней подружкой-утешительницей – кристалловской «Столичной», – я вновь со скрываемой, негромкой дрожью сердечной ощущал в себе, в своем бестелесном существе, которое и называется душою – зудение беспрерывное, ежедневное, сводящее с ума и повергающее в жесточайшую депрессию: сердечную черную скуку, если мне, по каким-то не зависящим от меня обстоятельствам, не удается совершить свой творческий акт – акт очередного убийства, – и только совершивши, отправивши намеченную жертву в бесконечный путь, который зовется одним ласковым словом – смерть – я вновь на какое-то короткое удивительное время чувствовал себя приобщенным к этой земле, к этой местности, к этой стране, в которой довелось мне появиться на свет божий, в этом моем теперешнем обличии, с этим скучающим сердцем, тоскующей душою, с мозгами, переполненными черт знает чем…
Чего скрывать от себя-то: с недавних пор я пребывал в состоянии графоманствующего графа Толстого, который не испачкавши, не измаравши очередную партию девственно чистых порубленных рулонов бумаги, не чувствовал себя нужным на этой земле, среди этого множества родных и пришлых физиономий, лиц и ликов.
Я когда-то не верил этому состоянию, считал его кривлянием, показухой художника, который не изживши из себя накопившееся художество, готов изойти к самому себе неразрешимой ненавистью и готов оттого добровольно уйти в иные запредельные миры. И если бы только гениальное вымарывалось на листы, – ведь сермяжная ремеслуха перла, напирала, вываливаясь через край добровольного каторжника.
Возможно, у художников, у сочинителей ремесленная размазня неизбежна. Мое же ремесло не предполагает лишь одной мастеровитости и натасканности. При этом, как и профессиональный поднаторелый беллетрист, я не нуждаюсь в каких-то специальных сверхсложных приспособлениях.
Читать дальше