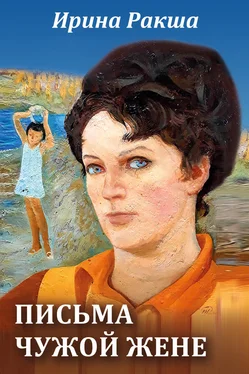Но ответить себе я не успела, поскольку из чемодана скользнул на пол к моим ногам небольшой пакет в пожелтевшем, хрупком от старости полиэтилене. Он был крест-накрест перевязан тонкой зелёной ленточкой. И потому не рассыпался. Но я не стала его разворачивать, а отложила. Дела Госархива мне тогда показались важнее. И лишь на другой день я развязала зелёный бантик…
Пакет состоял из бережно сложенной пачки каких-то писем, открыток и телеграмм. В конвертах и без. Я прочла обратный адрес: «Курск, до востребования». И ещё: «Курск, ул. Блинова, 12…» По аккуратным строчкам лиловых чернил я вдруг узнала знакомый почерк!.. Боже мой!.. Господи!.. Неужели?.. И даже дыхание перехватило… Это ведь Женя!.. Конечно, Женя!.. Носов!.. Мой незабвенный Евгений Иванович!..
С пачкой в руках я обессиленно села. Прямо хоть сердечное принимай…
…А ещё в пакете была маленькая такая катушка, плоская, круглая, с коричневой лентой плёнки – старинная магнитофонная звукозапись. Таких давно нет и в помине. И которую (как я сразу же поняла) мне предстояло каким-то образом оживлять, расшифровывать… Только как, где, у кого?.. Таких допотопных магнитофонов и на свете теперь уж нет. Разве что где-то в музеях.
В общем, с письмами я постепенно всё-таки справилась. Читала их медленно, долго, подробно. И даже с трепетом. Потом один за другим стала «забивать» тексты в компьютер. Так сказать, раскрывать, к счастью, очень понятный Женин почерк. Почерк отличника, где каждая буква буквально красовалась и пела. Где с каждой страницей, каждой строкой, порой даже со словом – передо мной воскресало моё прошлое. Казалось, давно забытое, умершее, стёртое, но вот почему-то не пожелавшее кануть в Лету… Оно воскресало то постепенно, а то яркими вспышками эпизодов, горячо и реально. Восставало, как птица феникс из пепла. И отряхивало живыми крылами… Конечно, благодаря Божьему промыслу, но главное – моему Юре, моему дорогому мужу-художнику, зачем-то сохранившему всё это…
Впрочем, у Бога нет ни пространства, ни времени. Нет ни будущего, ни прошлого. Всё едино, единовременно, всё как на ладони. На Его длани. И мёртвых у Бога нет. Все живы. Так что всё равно – все мы там встретимся. И ещё подумала: хорошо бы всем нам жить на земле сострадательно и любя, чтоб не стыдно было потом стоять у гроба друг друга…
* * *
А тут вдруг в гости ко мне неожиданно напросилась дама, назвавшаяся журналисткой из Курска, из какой-то газеты, давней поклонницей курянки Плевицкой, великой певицы-народницы, погибшей во Франции в эмиграции в начале войны, и курянина, известного прозаика Евгения Носова. Я, конечно, обрадовалась. Любое лишнее слово о моих любимых и родных мне особенно дорого. Она назвалась Диной Ивановной. «Но вы можете звать меня просто Диной», – разрешила она и попросила дать ей интервью об этих великих её земляках.
Пришла она к вечеру, как мы и договорились по телефону. Неяркая, в годах и полноватая. Документов её я, конечно, не спрашивала. Последние годы газетчики ко мне приходили частенько.
И вот мы с гостьей уже сидим в моей уютной квартире на Ленинградке, у белокаменного камина Юрочкиной работы. За широкими окнами, за тюлем штор, с высоты четырнадцатого этажа – раскинулась перед нами заснеженная Москва 2012 года. В вечерней дымке белеют внизу квадраты разнообразных крыш. Всюду до горизонта россыпь живых, мерцающих огней, как при посадке самолёта.
– Скажите, Ирина Евгеньевна, – говорит Дина, – вот это вокруг нас по стенам – это всё картины вашего мужа, Юрия Михайловича?
На журнальном столике между нами уже лежит её включённый блестящий маленький диктофон.
– Да, всё это оригиналы. И масло, и графика. Тут и мои портреты, и наших друзей. И пейзажи его родной Уфы, реки Белой. И Дальний Восток, тайга – Юра там с Куросавой работал над фильмом «Дерсу Узала». (Фото 3.)
Цепким взглядом оценщика она осматривала мою комнату.
– Очень красиво. Чувствуешь себя как в музее.
– Да. Но это коллекция домашняя, лично моя. А основные его большие полотна, Юра называл их «программные», в разных музеях. И России, и мира. И в Третьяковке, конечно. Например, его известный триптих «Поле Куликово». И «Разговор о будущем», и «Современники», «Портрет Тарковского».
– Андрея Тарковского? – живо спрашивает Дина. – Режиссёра?
– Нет. Его отца, Арсения Тарковского, чудо-поэта. Мы с Юрой дружили с ним. А за «Современников» и полотно «Моя мама» в 72‐м году Юра получил в Париже премию «Биеннале‐72» в номинации «Лучшее в реализме». – Гостья округляет глаза. – Правда, вместо художника в Париж летали тогда, конечно, чиновники. Но каталог выставки нам всё-таки привезли. Правда, только один экземпляр. Очень его берегу. Я потом вам покажу.
Читать дальше