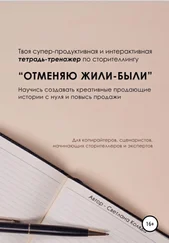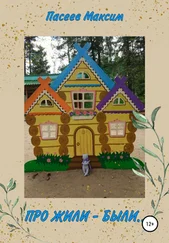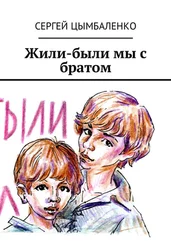Сейчас Николаю Викторовичу было 56 лет, он был среднего роста, не худой и не толстый, но с довольно явно обозначенным животиком. Походка его уже утратила молодецкую уверенность и, как это бывает у мужчин с приближением старости, одно плечо стало чуть-чуть выше другого и при ходьбе едва заметно выдавалось вперед, наклоняя в сторону всё тело. Голова его не являлась уже прямым продолжением шеи, а несколько сместилась по горизонтальной оси, образовав своеобразный загривок из-за которого он стал не то чтобы сутул, но смотрел теперь больше под ноги, чем вперед. Он стал немного ниже поднимать ноги при каждом шаге и сами шаги стали короче. В общем, с ним происходило все то, что происходит с большинством мужчин на рубеже пятидесяти пяти – шестидесяти лет.
Волосы его, довольно темные в молодости, приобрели изрядную проседь, при этом, если и поредели, то незначительно и равномерно, нигде не обозначив заметной плеши, что позволяло Николаю всю жизнь носить одну и ту же стрижку – под машинку – “дешево и сердито”. Лицо, хоть и несколько утяжеленное широким подбородком, в целом производило приятное впечатление и полностью подходило под определение «простое лицо».
Вполне приличный внешний вид его сильно портила общая черта всей российской провинции – зубы, точнее – проблемы с зубами, видимые при каждом открывании рта. Что уж там такое происходит в провинциальных ртах, но чем дальше от Москвы, тем раньше люди начинают терять зубы и тем реже их вставлять.
Уже к тридцати годам улыбка Шимичева демонстрировала отсутствие нескольких зубов и мощное развитие кариеса на многих из оставшихся. К тридцати пяти он сверкал коронками из “желтого металла”, а теперь у него были съемные протезы из ‘’экологически чистых и натуральных” пластических масс. В общем, Николай Викторович выглядел вполне обычно, может быть, лишь чуть старше своего биологического возраста.
Тридцать шесть лет своей жизни он отдал работе водителем автобуса. Так получилось, что перед армией по направлению военкомата Николай отучился на шофера в школе ДОСАФ, в армии водил УРАЛ, а демобилизовавшись в восемьдесят первом году случайно попал на курсы категории “D” в автобусный парк. Его привлекли довольно высокая зарплата, близость работы к дому и советская пропаганда, прославляющая любой труд, особенно неинтеллектуальный.
Вот и сегодня он возвращался в автобусный парк после очередного сколько-то тысячного дня неинтеллектуального труда. Николай Викторович любил эти возвращения после смены на пустом автобусе. Не нужно останавливаться на остановках, не нужно контролировать посадку и открывать-закрывать двери, не нужно продавать талончики и возиться со сдачей. В такие минуты можно было спокойно побыть наедине с самим собой, поразмышлять о том о сём, помечтать. Кроме того, возвращение в парк означало, что скоро он будет дома, в семье, куда он всегда шёл с охотой и радостью.
Ему опять не давала покоя тянущая боль в пояснице, ставшая в последние годы уже привычной. Теперь он знал причину этой боли, а предыдущие несколько лет по бытовому обыкновению списывал всё на остеохондроз – любимый диагноз при самолечении, в восьмидесятые годы пришедший на смену диагнозу “радикулит”.
В начале года по упорному настоянию старшей дочери Вики, которая работала врачом в областной больнице, он всё-таки лег на обследование по поводу болей в спине. И, хоть и не сразу, выяснилось что причиной этой боли является не радикулит, спровоцированный неудобными сиденьями ЛИАЗов, на которых он отработал лет двадцать пять, а почечная недостаточность, и что болезнь эта посерьезней радикулитов с остеохондрозами. Хроническая почечная недостаточность, явившаяся следствием гломерулонефрита переросла у него уже в стадию, неподдающеюся медикаментозному лечению. Говоря простым языком, почки его не могли более полноценно выполнять свои функции и не выводили из организма ненужные и вредные вещества.
В мире существуют, конечно, вполне эффективные, хоть и не стопроцентные, методы лечения, например, в клиниках Германии, США или Израиля, но для Шимичева, по вполне понятным причинам, они были недоступны. В России же он мог рассчитывать только на плановый (с протекцией дочери-врача – внеплановый) гемодиализ. При гемодиализе кровь очищается от токсинов при помощи аппарата искусственной почки в течении нескольких часов. Проделывать процедуру нужно еженедельно, что совершенно невозможно при том, что квоты на неё в Вологде (да и в других городах) распределяются на год вперёд. Кроме того необходимо регулярное стентирование мочеточников – процедура, если без подробностей, сродни гомодиалезу почек и очереди на него тоже сродни гемодиализным. Такое стентирование раз в год смысла, конечно, не имеет, а еженедельно платить громадные деньги коммерческой медицине, понятно, не по карману. Но, в любом случае, всё это не лечит, а только замедляет развитие болезни, это попытка частично компенсировать функцию почек, которые отказались полноценно работать. В идеале Шимичеву могла бы помочь пересадка донорской почки. Но это путь на сколько эффективный на столько и трудноосуществимый.
Читать дальше

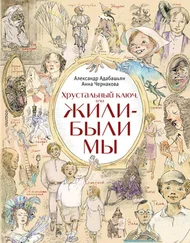
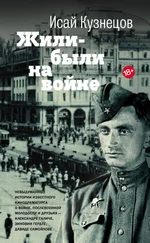
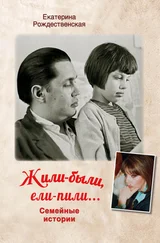
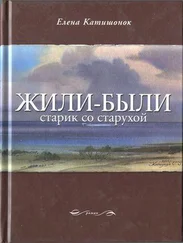


![Майкл Бакли - Жили-были детективы [litres]](/books/398459/majkl-bakli-zhili-byli-detektivy-litres-thumb.webp)