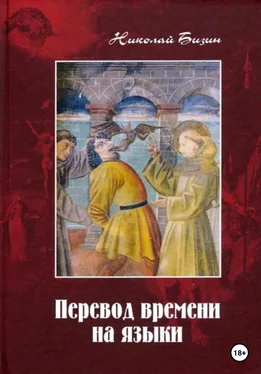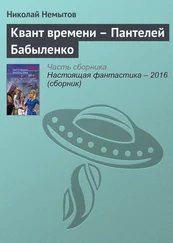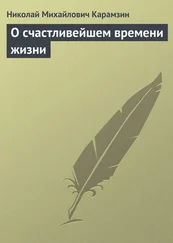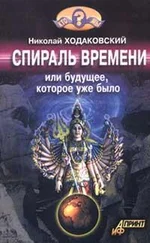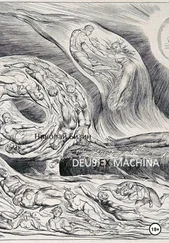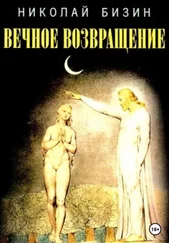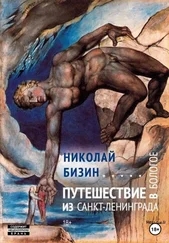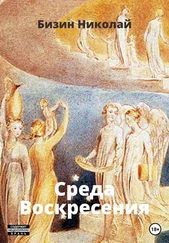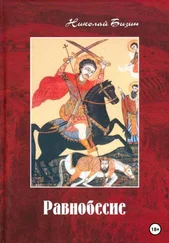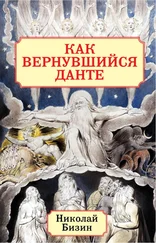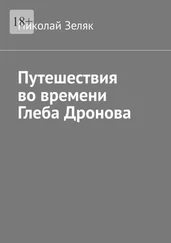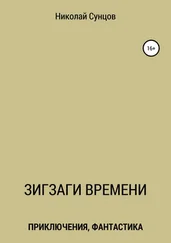А поскольку (в моём настоящем продолженном) очень даже может статься, что и учиться я буду – всегда (всегда буду не окончателен); но именно с этой мною же изображаемой историей мне так поступать – недопустимо. Но ведь именно поэтому я и обратился к поэтам: они всегда иллюстрируют мысль точными цитатами.
Вот и после своего вступления дон Луис многозначительно принялся цитировать хорошо всем (тамошним) нам известное стихотворение XV века Педро де Картахэна (или, быть может, его брата Алонсо; не всё ли это равно – здесь в тюрьме, среди нас?):
– Я – это вы, вы – это я.
Ведь наши души, наши взоры -
Одна душа, единый взор.
Страсть ваша – это страсть моя.
И нашей страсти приговоры -
Единый смертный приговор.
…..............................................
Так, наша слава умерла.
Наш рок для нас изобретает
Такое долгое страдание,
Что нам ясна причина зла:
Не смерть сама нас убивает,
А нашей смерти опоздание.
Читал он весьма выразительно, особо акцентируя наше внимание на изощрённой искусственности анализа противоречивых и надуманных чувств, сказывающийся в антитезах и гиперболах; всё было очень уместно именно здесь, в высокоинтеллектуальном застенке инквизиции.
Конечно, в приведённой им любовной аллегории никакой вещественной кистью не выписывается то, что неизбежно приводит человека в трибунал инквизиции, то ли свидетелем то ли обвиняемым: различные толкования различных же толкований Слова! Поскольку дело касается вещей, если так можно выразиться, вещих и подчёркнуто(!) невидимых. Которые как раз безусловно ведут на дознание и суд.
Вещи «видимо невидимые». Зримо они – определённо многотолкуемы. Кроме, разве что, той единственной (сверх)очевидной и (сверх)конкретной вещи: мы все умираем заранее. Физический (видимый) финал – всегда констатация уже происшедшего в невидимом. Которая может опередить осознание человеком – факта, но может за ним и запаздывать, сообразуясь с британской филологией; такова формальность бытия. Неформальное же (то есть вещее) наше присутствие – в точке сосредоточения смыслов жизни.
Но порою именно неформальность требует формального подчёркивания. Для простоты интерпретаций, если уж мы затеяли дело с переводом с формального языка тела на подчёркнутый язык души. При таком переводе невидимое вещее начинает представляться и очевидным, и ощутимо выпуклым.
Так что формальной (или телесной) причиной нашего сосредоточения именно здесь являются различные переводы одних и тех же древнеиудейских текстов и различия в их истолкованиях; белое слово на белом листе – вещь тонкая и силы неоспоримой, но (порою) выделить его для нашего грубого зрения проще либо курсивом, либо чертой горизонта, подведённой снизу.
Но и это верно лишь на подчёркнуто(!) поверхностный взгляд начинающего. Чтобы закончить с «видимо невидимым», надобно и начинать с «невидимо невидимого»: (начнём) с того, что человек, ежедневно и ежечасно (к самому) себе приближающий мир Слова посредством своих собственных слов, (начинает) многоосмысленно толковать его!
Что, в свой черёд (при дерзновенных обращениях и к Ветхому, и к Новому Заветам) приводит к практическому мироформированию (а где-то даже и вещественному терраформированию) наших прошлого, настоящего и будущего.
То есть (на деле) в юрисдикции Святейшего трибунала нашим соучастником оказывается вообще любой человек! Вообще любой! Преступивший к видимому от невидимого. При том что реальные версификации (видимых) слова и дела требуют почти что демиургова погружения в любой(!) предмет.
Согласитесь, именно в толкованиях незримое начинает перетекать в зримое; Слово становится делом посредством акта веры, то есть – вовсе не посредством инквизиторского самовымучивания (как определение – точнее изначального до-знания), а тем именно, что оказывается и тем, и другим, и чем-то ещё.
Итак, почему именно застенки испанской инквизиции? А вы не поверите: именно там (в трибунале) просвещённый иудей мог реально и осознанно, и (даже) свободно вступить в теологический спор с христианином-католиком; так же – вы опять не поверите: именно в тогдашней кровожадной Испании имея все шансы и на неоспоримую победу в дискурсе, и столь же неоспоримое поражение!
Такая победа его – его же (прошлого) поражение; как и поражение его оппонента – его же (будущего) торжество!
Каким образом, вы спросите? Разумеется, на публичном теологическом диспуте; из-реки по имени факт: в средние века в Испании состоялось два наиболее известных иудейско-христианских диспута! Барселонский (1263 г.) и диспут в Тортосе (1413 -1414 гг.); последствием таких диспутов явилась катастрофа иудаизма и почти поголовный переход ортодоксов в христианство, почти всегда насильственный, но – иногда подчёркнуто(!) добровольный; помимо помянутых диспутов только застенки инквизиции доступно предоставляли свою площадку (место и время) и для дискурса, и для простого даже сочувственного собеседования.
Читать дальше