Было казаков – десять.
Сперва – больше. Но на Чаинских пустошах в горелых зимних лесах тайно отстали от аргиша Гаврилка Фролов да с ним Пашка Лаврентьев. Отстали не просто так, отстали воровски, хитро – с нартой, с казенной пищалью, с нужным припасом. Специально хотели отстать, вот и отстали. Сын боярский только сплюнул. Быть беглецам в жестоком наказании без пощады!
Казаки переглядывались. Быть-то быть, но землица пуста. Эти заворовавшие Гаврилка да Пашка вовремя спохватились. До Москвы из здешних мест хорошего ходу – года три. До Якуцкого острога меньше, но все равно в глуши, сквозь холод, тьму. А на пути – племя писаных рож. Про них говорили – людей ядят!
А еще вдруг сдал сын боярский. Перед последним острожком по названию Пустой (за ним – полная неизвестность, не ходил никто) окончательно занемог. Вож Шохин, угрюмо и страшно помаргивая вывернутым красным веком, вырезал для Вторко Катаева клюку из лиственничного корня. Но поход не богомолье, и с клюкой тоже далеко не уйдешь. В острожке Пустом сын боярский да вож шептались аж до утра. Казаки храпят, несвежим дыханием колеблют слабый свет лампадки, а из тьмы (Свешников неподалеку лежал) шепоток:
«Неужто правда?»
«Слово в слово… Особенный человек… Фиск нынче везде, потому и следы скрывай…»
«А воевода?»
«Он помнит…»
Непонятно, о чем шептались.
Правда, Свешников сильно и не прислушивался.
Лежал, думал: а вот почему так странно говорил московский дьяк в Якуцке? «Скажет, вернуться в Якуцк – вернешься. Скажет, кого убить – убьешь. То, что сделаешь, перемены в Москве произведет». А какие такие перемены? И откуда в совсем пустых местах взяться человеку с литовским именем? Не прост воеводский наказ. Можно сказать, даже неслыханный. Пойти к Большой собачьей реке и поймать зверя носорукого, у него рука на носу. Поймать того зверя и сплавить кочем до моря, а потом по Лене до Якуцка. А дальше – сообразим.
Потрескивала лампадка. Ночь.
Только в углу зимовья глухой шепоток.
Наверное, о чем-то важном договорились той ночью заскорбевший ногами сын боярский Вторко Катаев и страшно помаргивающий вывороченным веком вож. А может, наоборот, не договорились. Но утром сын боярский сообщил: «Невмочь мне с вами дальше идти. Клюка в таком пути не помощник. Встанет теперь передовщиком Свешников».
Услышав такое, Федька Кафтанов просто оторопел. Остро глянул на близких дружков – Косого да Ларьку Трофимова. Дескать, понятно, что государевых людей должен вести в сендуху государев же человек, но все равно: почему это Свешников? Чем лучше других? Или сильно грамотен? Да Ганька Питухин обойдет его по любой лыжне, а Елфимка Спиридонов, сын попов, куда грамотнее.
Сын боярский нехорошо насупился, и Кафтанов отвел глаза.
Так и осталось неизвестным, о чем шептались в ночи вож и сын боярский.
А отряд с этого часу повел Свешников. Не найдут зверя, знали, ему отвечать. Это утешало даже Кафтанова.
Шли.
Гольцы – ледяные.
Дух спирало от высоты.
Нескончаемой ночью, пугая, вспыхивало небо.
Взвивались с полночи, с севера, зеленые, голубые, фиолетовые стрелы, всегда оперенные незнакомо. С безумной скоростью неслись вверх, разворачивались в лучи. От цветных стрел и лучей отпадали и гасли в полете смутные пятна, тоже разных цветов. Глядя на это, вож поднимал к небу страшное, искалеченное медведем лицо:
– Юкагыр уотта убайер.
То есть шалят рожи писаные!
Ох, шалят, разжигают в ночи костры!
Всё валил на дикующих. Как бы даже побаивался.
И Свешников тоже присматривался. Многое хотел понять.
Вот вож Христофор Шохин – молчун. Часто молчит, а если вдруг говорит, то грубо. В пути дерзил всем, даже передовщику. При этом все знали, что сын боярский Вторко Катаев, подыскивая проводника, почему-то одного за другим отверг трех опытных вожей и дождался именно Шохина. Среди отвергнутых оказался Илька Никулин, водивший в сендуху самого Постника Иванова – енисейского казака, распространившего русский край на реки Яну и Большую собачью. И два других вожа были опытные. А все равно сын боярский дождался Шохина.
Да и то. Дело такое. По слабому следу, продавленному медведем – дедом сендушным босоногим, Христофор Шохин сразу определял: сердит или так гуляет; по размашке шага указывал – торопится зверь или некуда ему спешить. Видел тайное, укрытое от человеческих глаз. Но вот странно: мимо срубленной ондушки, северной лиственницы, точнее, мимо ее черного высокого пенька, торчащего из сугроба, прошел, к примеру, будто ничего не увидел. А не увидеть ее никак нельзя было. Та ондушка срублена была, ссечена , ее не сломали. На косом срезе даже шапочка снега не удержалась.
Читать дальше








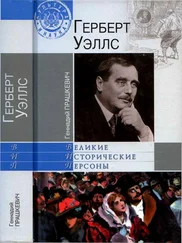


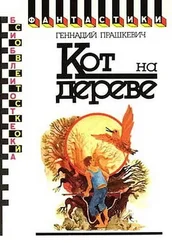
![Геннадий Прашкевич - Парикмахерские ребята [Сборник остросюжетной фантастики]](/books/426502/gennadij-prashkevich-parikmaherskie-rebyata-sbornik-thumb.webp)