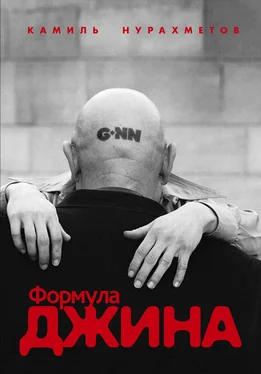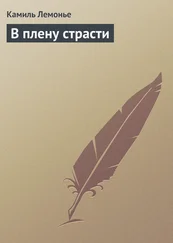Майор Пекло смотрел на идеально почищенные сапоги и не мог сформулировать, чем же он недоволен? Сапоги блестели, как штык кремлевского курсанта перед парадом. Глядя на щуплого карлика-заключенного с большой головой и ушами, он ловил себя на крупицах жалости к этому убогому и обреченному, но быстро очнувшись от дальних чувств, он включил садизм, надел на указательный палец шершавый наперсток и схватил карлика за ухо, повернув его в сторону с хрустом. Уши несчастного были опухшими и толстыми от внутренних гематом, как у профессиональных борцов. Его уши напоминали никому не нужные вареники, кое-как прилепленные к увеличенной лысой голове похожей на тыкву.
– Гнус! Почему так плохо почистил мои сапоги? Отвечай, плесень человеческая! – с диким удовольствием вымолвил майор, скрежеща зубами. Карлик зажмурил глаза, из которых текли слезы, прикусил зубами верхнюю губу и молчал, дергая короткими руками и головой от боли. Майор схватил его за ворот синей робы и с силой ударил головой о ребро стола. Гнус тут же упал на пол, как кукла в «Детском мире», и, высунув язык из маленького беззубого рта, стал лизать свою кровь, льющуюся из рассеченного лба на подбородок. Он молчал и облизывал язык, глядя майору в глаза.
– Че вылупился, червь, еще раз плохо почистишь сапоги, сделаю два надреза под мышками для кровостока и скормлю собакам, понял? Отвечать!
– Так точно! Понял! – ответил карлик, продолжая улыбаться и смотреть в глаза начальнику лагеря майору Пекло. Голубые глаза Гнуса смотрели куда-то дальше. Он был там, далеко, на свободе, возле своей покойной бабушки, связавшей ему теплые носки еще тридцать пять лет назад для детдома. Когда ему было больно, он всегда думал о чем-то хорошем, из той, прошлой жизни. Его тело истекало физической болью, но душа была там, в родном Смоленске, где он и заработал себе смертный приговор. Всю свою жизнь он ощущал наказание и проклятье за спиной. И однажды, ночуя в цыганском кочевом таборе с ромалами, старая чавала Мехе, сказала ему, что родился он карликом для того, чтобы ответить за страшные грехи деда и отца. И покоя ему не будет, пока не встретит он крепкий затылок с черными буквами. Какую-то чушь несла Мехе, разглядывая его ладони у костра. Это было очень давно и слова цыганки бесследно растворились на просторах его мозга. Отца он не знал, а деда тем более, нутром осознавая свою неправильную искалеченную жизнь среди полноценных людей. Он привык быть битым и улыбаться. Он никогда не имел семью, не сказал слово «мама», не получил ни одного подарка, не знал свой день рождения, и никогда не наряжал свою собственную новогоднюю елку. Он был уродливым карликом в мире прекрасного безразличия и жути, он был за бортом, проживая и прожёвывая жизнь человеческого полипа на днищах чужих кораблей.
– Захочешь назад в камеру, только намекни! Я тебя отправлю к Арлекину, там проживешь часа три, может два, а может, минут за десять они тебя задушат и сожрут! Ха! Пшел на место, дичь сбитая!
В окрестностях лагеря бродили региональные волки, открывая для себя новые запахи старых мест. Их было много. Полуголодные и всегда злые псы охраны разделились на два вида, одни выли волкам в ответ, задирая головы к ночному небу, другие лаяли до хрипа и рвались с цепей в драку. Ночью была слышна их оперная перекличка протяжным воем. Они слышали запах крови, запах умирающих человеческих тел и мясного пепла. Ведомые своими инстинктами, волки и днем и ночью обходили территорию тайги возле забора, внюхивались в порывы ветра, который дул из-за стены и водили черными холодными носами, втягивая большой микс информации. Там, за высоченной стеной и гудящей музыкой электрических проводов было много мясной еды. Там были ослабленные и раненые люди, плюющие на пол голодной слюной, выдыхающие обтекаемые вирусы в густой информационный воздух, выделяющие острый запах страха, несущийся в тайгу в черные носы свободных хищников. Этот запах просачивался из помещений, отлеживаясь там, как желе забытого бабушкиного варенья из черной смородины или кровавой клюквы. Этот запах выдерживался в закрытых камерах, как драгоценные винные микробы в подвалах Йоханнесбурга. Он рвался наружу отравленными цепочками воздушных шариков, оповестить мир о том, что эти жизни, многократно нарушившие законы Империи, медленно превращаются в пепел с искрами, вылетающий из последней трубы каждую ночь. Тайга смотрела на лагерь, она смотрела стволами и зелеными ресницами-иголками, слегка окрашенными серым пеплом. Ветер менял краски и запахи, ветер уже что-то слышал от пролетающих мимо птиц, он готовился к сквозняку, чтобы проникнуть внутрь человеческих строений. Вместо ежедневной кукушки в тайге ухал вечерний филин, оповещая чьи-то уши о скорых переменах. Там, где ничего не происходит, обязательно будет что-то происходить – это закон образовавшейся пустоты пространства. Это закон не писан людьми, он выписан Богом на гранитной плите для людей, давно потерявших надежду. Он, великий кукловод, уже начинал первый акт своей новенькой пьесы!
Читать дальше