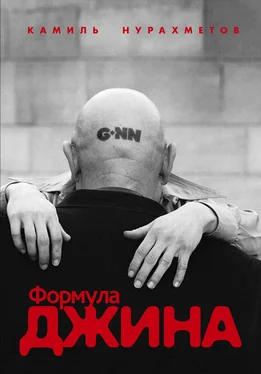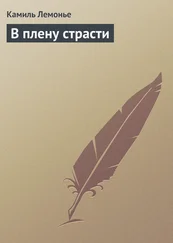Река была просочившейся водой сквозь высокую стену плотины, оставив позади выработанное для людей электричество и память о большой воде. Отличительной чертой такого лагеря для приговоренных было то, что на каждые десять человек выдавался обед, один раз в день и только на восьмерых. В камерах все знали, кто эти двое из каждой десятки, и с ними никто и никогда не делился, чтобы не показать слабость перед коллективом и самому не подохнуть раньше времени! Никто не знал, что такое раньше времени или позже, но всегда предпочиталась формулировка «подохнуть раньше времени», про позже никто не говорил, это было бы нелогично – умереть позже времени! Абсурд! К железной дверце, откидайке-кормушке, всегда подходили те, кто будет есть, а те, кто не будет, медленно умирали от голода, разглядывая чужие латунные миски, лежа на полу и прижавшись к стене. Рано или поздно, те, кто ели сегодня, будут умирать от голода, как те, кто умирает сейчас. Круг жизни и смерти был замкнут на два месяца, не более. Кормежка сама по себе делилась на летный, то есть, день с кормлением, и не летный – день без еды. Очень часто не летных дней было больше, чем летных и уже сами узники делились на тех, кто может отвлечься от голодной червивой соски внутри живота и на тех, кто звереет от голода поневоле мозгового устройства и внутренних сил, что усиливало страх в замкнутом помещении, где стены были выкрашены в ядовито-зеленый цвет. Иногда в лагере был так называемый «яблочный день», когда открывались кормушки и в камеры вбрасывались одно или два румяных яблока. Если человеческий коллектив был разрознен и без разумного самоустройства, узники убивали или калечили друг друга за яблоко, если нет, все заканчивалось тихо, яблоко съедалось самыми сильными, которым нужны были витамины для дальнейшей борьбы. Внизу двери, у самого пола, было второе окно, закрытое на замок, для вытаскивания трупов из камеры. Сама дверь не открывалась, трупы выволакивались снизу и мгновенно в голову производился контрольный выстрел, на всякий случай, чтобы не пытались повторить подвиг Франсуа Пико. В камеру можно было войти с одним килограммом нужных вещей, прошедших три тщательных осмотра по списку. Личные вещи находились в пакете с эмблемой лагеря-тюрьмы и печатью, подтверждающей три осмотра, с учетом 345 абсолютно запрещенных вещей. Список был минимизирован до самого предельного логичного уровня и максимально лоялен к вещам, которые могли нанести медленный урон здоровью. Этот пакет с личными вещами так и назывался – «Последний пакет в жизни». Взяток никто не брал, потому что специальным Приказом по Системе от 12 мая 2099 года любой служащий, пойманный на взятке, расстреливался во дворе через 15 минут. После такого приказа, после расстрела пятнадцати надсмотрщиков за последний год, все принимали мудрое решение: лучше жить, чем сдохнуть! Такой был мудрый приказ и такой единственно правильный выбор, которому уже тысячи логических лет! Учреждения, где взяточников не расстреливают, обречены на болтовню о демократии и совести, на медленное загнивание и самоуничтожение. Долгожителей в лагере не было, стариков тем более, потому что встречать старость – это привилегия только для избранных за особые заслуги перед равновесием добра и зла в течение всей жизненной киноленты. В 47-м лагере избранных не было, а может быть, и были, но никто об этом не знал, кроме Господа Бога и его летающих в эфире единомышленников. Полет мысли всех узников был похож на ползанье старой улитки по сухому асфальту: никакого полета давно уже не было, а была никчемная жизнь, отбирающая силы каждый день и ведущая в дырявую тьму. Они жили по старинному принципу рабов Абиссинии: «Живи, как можешь, если нельзя, как хочется». Электрических розеток в камерах не было, все окна были сплошным стеклом с решеткой без форточек и без ставень, туалет один, один кран с водой и двенадцать кроватей на сорок или пятьдесят обреченных. Это был стандарт всех камер лагеря: закупоренная бактериальная среда без поступления какой-либо информации, предназначенная для быстрой деградации человеческой особи, благодатной почвы для самоубийств и беспредельно агрессивной внутренней среды. Лазаретов с врачами для больных узников тоже не было, потому что уровень смертности в лагере приветствовался по всем инстанциям, как в древней системе строителей коммунизма, и книги с учетными списками умерших пополняли пыльные полки архивов каждый год и гигабайты внутренних компов. Чем больше умрет народа, тем круче график показателей, тем больше премий и кислорода! Внутри лагеря жила и развивалась лепра, сифилис, СПИД и стандартный туберкулез с палочкой, того самого мистера Коха и, конечно же, канцер. «Чем больше умрет, тем больше уровень справедливости!» – говорил генерал Пахучий на ежегодной Конференции Системы. Кратковременных прогулок на воздухе тоже не существовало, а было сидение в четырех закупоренных стенах изо дня в день, и быстрое, поголовное помешательство законсервированного уровня астронавтов дальнего космоса. Если бы кто-нибудь сказал узникам, что смерть – это самое необычное и яркое путешествие в их жизни, то не нашлось бы ни одного приговоренного из трех тысяч человек, кто прислушался бы к этим словам. Люди привыкли жить и дышать, они, сколько себя помнят, живут и дышат, каждый день борясь с социальной средой, которую создавали не они, а другие, до их появления. Они абсолютно не помнят себя мертвыми и уж подавно свой туннельный переход из новенькой клетки А в новую клетку А2, у мамы, в тайной лаборатории живота. Мнительный народ всю жизнь старается отгонять страшные мысли о смерти, которая обязательно появиться из недр сознания. Они привыкли жить, дышать и кушать, чтобы снова дышать. Они хотели бы еще и еще, и подольше, и с вином и сливочным маслом под лучами самой рядовой Желтой звезды и у теплого моря. Они бы хотели… Мало ли чего все хотят, уж слишком часто народ делится клетками без разрешения, переизбыток ртов на лице планеты уже давно! Так осмысленно исполнялся вердикт смертной казни, нарисованный государством по приговору суда. Искалеченная и абсурдная демократия добралась и в этот мир, расправляясь с чужим дыханием, привычкой жить и антагонизмом с государственной машиной как бензиновой мельницей для любых костей! Однажды прекрасный поэт золотого века с красивыми тонкими усами, статью рыцаря и с рубиновой инкрустацией эфеса шпаги, общаясь с испанской королевой, произнес: «Ваше Сияние! Жизнь злых людей, полна тревог!» Жизнь этих людей-узников была полна не просто тревог, узники медленно поглощались своими мыслями, питаясь увиденным и пережитым с каждым своим ничтожным днем, они тлели на глазах друг у друга, ежесекундно ощущая смерть под старыми матрасами, подушками и в камерных щелях, где сидел страх и улыбался, во все сто тридцать восемь страшных застрахованных зубов.
Читать дальше