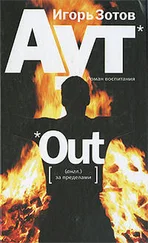Ваня вспомнил, как он снова перечитал написанное, хмыкнул зло и так же зло вырвал первую страницу. Долго комкал и потом на чистом листе написал: «Жалость прекрасна, если она не зеркало». Вдохновлённый неожиданным откровением он писал до утра и утром уснул, спокойный, радостный и совсем не одинокий. А как иначе – на страницах был он сам, вся его жизнь, но сам он не переживал заново эту жизнь, он спокойно рассматривал её со стороны. Он был читателем и автором в одном лице. Можно сказать, он терпеливо выслушивал самого себя, не осуждал, не одобрял, но и не безучастно – то был необыкновенный слушатель. Да и рассказчик не лукавил – он каялся. Честно, глаза в глаза. Для него – для Вани – написанное не было простой беллетристикой, увлекательным романом. Развёрнутые страницы напоминали разорванную с силой грудину и вывернутую наружу: неприглядно, но честно; и даже не голый.
* * *
Ваня упёр подбородок в кулаки и придвинулся поближе к печке, словно желал получше рассмотреть пламя в топке. Писать много вредно и читать тоже, тогда чтение становится чем-то вроде пищеварительного процесса, засосало внутри, и глаза начинают метаться: что бы съесть такого… со всеми вытекающими отсюда результатами. А я больше и не собираюсь – точка. Тут всё, и даже больше. Кстати всё уже было написано до меня и давно, более того: до первого писателя и до первого поэта. Чем мы кичимся, возносимся? Для полноты картины не хватало одного словосочетания: Слово Ивана… И завтра утром оно будет дописано и тогда эти тетради превратятся не в сшитые «типографским методом» листы – они оживут и обязательно переживут моё бренное тело. Как можно превратить в прах то, что бесплотно и само по себе бессмертно – мой бессмертный дух.
И тут ясная, почти детская (если бы не усталые морщины в уголках глаз и на переносице) улыбка осветила лицо старлея. Скрючившись у печурки, сохраняя внутреннее тепло, он потянулся за толстой тетрадью. «Куда же вы так мчитесь, торопитесь», – Ваня улыбнулся мчащимся по некогда глянцевой поляне лошадям, теперь поляна-обложка напоминала вытоптанный ипподром. Открыл, полистал и начал читать.
«… Давно уже меня никто не зовёт Ванюшей. Только мама, иногда. Всё чаще Ваней, где-нибудь в кабинете обратятся: Иван Иванович. Не сразу и сообразишь.
Ванюшей бы лучше…
Страна продолжала жить своей жизнью и вместе с ней я, поспевая, как мог.
В стране менялись эпохи и лидеры. Моё беспокойное отечество снова обещало очередное светлое будущее. Странно – и я, и все вокруг верил ему. А иначе как? Отечество похоже на корабль, на который не покупаешь билет – его купили задолго до тебя. И курс проложили, не спрашивая твоего мнения, исходя из собственных предпочтений, пожеланий, а частенько руководствуясь сиюминутными прихотями, капризами и упрямством: «Хочу мулатку, банановый рай и что бы непременно сейчас». Хм, «банановый рай», как и любая гастрономическая мечта «банановый рай» быстро поедается, излишки гниют и пропадают. Рабсила, обслуживающая райские запросы, тоже портится и поддаётся разложению. Зависть и озлобление, лень и жажда наживы овладевают подлыми умами. Им хочется перемен. «Долой первые классы!» Чумазые машинисты, измождённые матросы бегут наверх, за ними устремляется остальной обслуживающий персонал, на ходу пересчитывая чаевые: «у, аристократия, жмоты, совсем зажрались!» Бунт на корабле-отечестве! Капитан и остальная праздная публика, бывшая элита заперта внизу: «нехай привыкает „аристократия“ хренова к нашим условиям! Ручки белые измажет. А мы в раю поживём, покейфуем!» А корабль как шёл своим курсом, так и продолжает идти.
Новый капитан осмотрится на мостике, приноровится и вот уже слышишь уверенный окрепший голос: «Отдать швартовые! Поднять якорь! Машина полный ход!» Новая публика, ещё обживающая роскошные апартаменты первого класса, интересуется: «И куды же мы теперича?» Им подсказывают, обучают этикету: «Вы теперь не матросня какая. Вы, не Ермилка теперь, а Ермил Петрович, а вы, Глашка, не Глашка вовсе – Аглафира Ивановна. Герои новой эпохи. Ермил Петрович…» «А чаго тебе?» «Ермил Петрович, – укоризненно, – следует говорить не «чаго» – герою новой эпохи не пристало так выражаться – вы элита, будем образовываться в университетах. Итак: «Будьте любезны, осведомите меня». И, Ермил Петрович… «Слушаю вас?» «Вот видите: университетов не стоит бояться. И «бывшие» не за одно поколение манерам обучались и вместо «кофэ» «кофе» говорить учились. Ермил Петрович, галстучек поправьте». «Да ну его в ж…» «Ермил Петрович, Ермил Петрович, – осуждающе, – так положено – вы теперь лицо новой эпохи». «Извините, никак этот аглицкий узел не усвою. Мудрёный уж больно. У-у зараза». «А дайте я попробую». «Ты чего лезешь, да с грязными ногтями, Глашка! Галстук шёлковый, в самом Парижу купленный» «Во-первых, не Глашка, а Аглафира Ивановна. И маникюрам я теперича тоже образована. Не только вам университеты кончать. Во-вторых, прошу при дамах не выражаться более, и, в-третьих, в Париже. Па-ри-же!» «Вот хрень!» «Ермил Петрович! – в один голос!» «Ах, да-да. Глаш… Аглафира Петровна, не затруднит ли вас поправить мой галстук». «Браво!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу