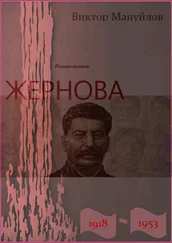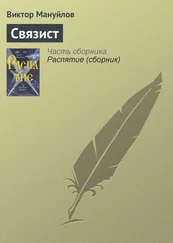Я не стал сравнивать себя со своим незадачливым соперником, боясь, что между нами найдется много общего помимо небритости, и решительно уселся на табурет возле кровати, как раз напротив матильдиного бедра, рельефно вырисовывающегося под тонким одеялом.
Левая рука Матильды была вытянута вдоль тела, и от нее вверх тянулась резиновая трубочка, по которой в вену поступала глюкоза. Конечно, это не самое лучшее время для общения, но я зачем-то сюда пришел, какие-то слова в голове моей вертелись, и эти слова я непременно должен произнести. И я снова открыл было рот, но заметил, как Матильда, бросив взгляд на тарелки с фруктами, сглотнула слюну, обрадовано схватил самый большой ломоть арбуза и протянул ей.
Матильда отшатнулась, защищаясь свободной рукой.
Не сразу до меня дошло, что есть арбуз в лежачем положении не слишком-то удобно. Тогда я, все более смелея, решительно подоткнул подушку у нее под головой, постелил ей на грудь вафельное полотенце, поставил на полотенце пустую тарелку, на тарелку положил ломоть с ярко-красной мякотью, пронизанной черными косточками, и, довольный своей находчивостью, уставился в мерцающие глаза: мол, я сделал все, можете, фройляйн, пользоваться нашей русской щедростью.
Похоже, это произвело на Матильду впечатление. Она тут же предложила и мне заняться арбузом.
Представляю, как бы выпучил свои желтые бельма долговязый лимонный придурок, если бы увидел, как я истребляю его подношение.
Арбузные и дынные ломти со своей тарелки я скармливал Матильде, а сам налегал на чужие, как бы беря на себя все возможные последствия от съедения непроверенной пищи. В безопасности своей пищи я, разумеется, не сомневался. Так мы довольно лихо с этим управились. Я пообещал принести еще, после ужина. Теперь Матильда уплетала персики, а я развлекал ее своей русско-немецкой болтовней. И мы неплохо понимали друг друга.
Несколько раз я поправлял подушку и помогал Матильде приподниматься, стараясь при этом не беспокоить руку с загнанной в вену иглой, и ее серые глаза – наконец-то я рассмотрел, какого они цвета, – с чуть тронутыми желтизной белками призывно мерцали совсем близко от моего лица, а великолепная копна волос не только излучала дурманящий запах, но и манила, манила к себе щекочущими прикосновениями, так что тело мое напрягалось, дыхание прерывалось, движения становились замедленными и весьма неуверенными.
Мне уже начинало казаться, что в следующее мгновение что-то произойдет, то есть в тот момент, как я уберу с ее груди тарелку и полотенце. Я уже плохо соображал и все видел как бы сквозь дымку, из которой выступали то сияющие глаза, то пухлые губы с легким пушком над верхней, и белая полоска зубов, и в вырезе халата краешек ложбинки, уходящей под блекло-розовую больничную рубашку. Я уже ощущал ее губы своими губами, мысленно зарывался лицом в ее волосы…
И тут дверь открылась, вошла сестра, пожилая и очень сварливая дама, – и все рухнуло: блаженная дымка улетучилась и объявилась постыдная проза: арбузные и дынные корки, персиковые косточки и я – в линялой от стирок пижаме с короткими рукавами и штанинами, в огромных шлепанцах, восседающий на табурете в непозволительной близости к изголовью; и глаза мои, и весь вид мой должны говорить – нет, кричать! – постороннему взгляду о моих вожделениях. И все это вместо того, чтобы лежать в своей палате под капельницей, как и все порядочные больные.
Слава богу, эта мегера не видела, как я только что трескал здесь арбуз и дыню, как неуклюже, можно сказать, паралитически замедленно ухаживал за немкой.
– А я-то тебя ищу-ищу, а ты, оказывается, вот где. А ну марш в палату! Или, по-твоему, твою капельницу я должна самой себе ставить? Ишь выдумал!
Ладно еще, что Матильда не смеялась мне вслед, как тому долговязому придурку, – и на том спасибо.
Весь следующий день после того, как меня бесцеремонно выставили из ее палаты, я не видел Матильды и не делал попыток еще раз ее навестить. Наверняка долговязый лимон воспользовался обстоятельством, что его палата расположена по соседству, а мне идти через весь коридор, мимо других палат, под перекрестными и явно насмешливыми взглядами. Но немецкое волосатое чудо не отпускало меня ни на минуту, и стоило мне прикрыть глаза, как я снова и снова склонялся над Матильдой, поправляя подушку, и губы ее были так близки, так желанны…
В понедельник утром, во время врачебного обхода, я видел, как из матильдиной палаты выходил целый синклит белых халатов во главе с самим Арменом Ашотовичем, главврачом больницы. На душе у меня стало почему-то тревожно. Когда к нам на веранду заглянула Розалия Марковна, старая еврейка, больше похожая на армянку, чем армянка Анна-Ануш, и похвалила меня за исполненную роль переводчика и за фрукты, я осмелился спросить, как поживает наша немка и как на ее состояние смотрят наши медицинские светила. Оказалось, что поживает немка хорошо, и состояние у нее вполне приличное, но болезнь несколько запущена, потому что обнаружили ее с запозданием, так что ей придется какое-то время соблюдать постельный режим.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу