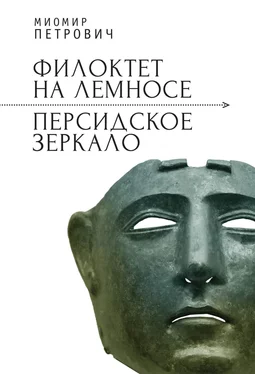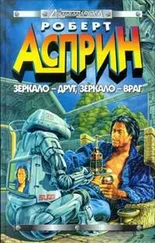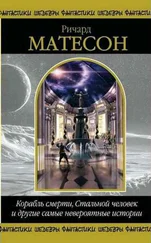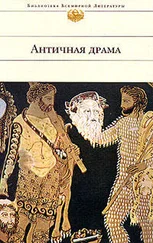А может быть, и Хриса, особенно в первые годы его пребывания на острове, в те минуты, когда решалась на некий тайный союз с человеком, которого все избегали после запрета убивать его, может быть, ей тогда удалось разглядеть намеки на прежний гибкий стан воина и гимнаста, и потому, окруженная юродивыми и выродившимися мужиками, охотно пользующими тело, обернулась душой к больной и хромой фигуре стрельца? Хотя и она, как все прочие, не могла не почувствовать ужасный смрад, который распространяла его нога. Неужели его тело могло быть для нее привлекательным?
Охотник всегда знал, что осознание утраченной гармонии ведет к вечному человеческому отчаянию. Разве каждое человеческое существо не пребывает в непрерывном поиске утраченной дороги, по которой можно вернуться на Олимп?
Уже шесть лет живет Филоктет со смрадом своей раны, сейчас несколько подзажившей, со страшной вонью, раздражающей его собственное нёбо, смрадом, который первоначально заставлял содрогаться не только воинов, но и равных ему полководцев, смрадом, извергающимся из каждой капли его пота, изо рта, из слез, из трепета ресниц, смрадом, который он со смесью стыда, страха и чувства предстоящего умирания невольно испускал каждой порой своего тела, но более всего этой, теперь в большей степени черной, нежели кроваво-красной рваной дыры.
Мало того, не он живет с раной, а она живет сама по себе на его уже отупевшем от боли теле как гость, который со временем стал значительнее хозяина дома, а сам он – приживала у существующего самостоятельно кровавого кратера, прислушивающийся к только ему понятным импульсам, испуская время от времени пару капель крови, а иной раз и струйку, а то и зеленую слизь, которая, смешавшись с сизыми пузырьками непонятного происхождения, медленно, совсем как змея, скользит вниз по ноге, достигая корней пальцев, стиснутых грубой сандалией, где исчезает, совсем как горная речка, пропадающая в отверстии меж стесненных скал, чтобы вновь появиться где-нибудь на поверхности.
Во время разглядывания этой струйки стрельцу часто приходила в голову мысль, покоящаяся в промежутке между сознанием и подсознанием, о том, что истечение жидкости есть не просто рядовое сравнение с истечением жизни, а, скорее, истечение некоего древнего, но все же его личного греха. Необычность этой раны была не только в ее постоянстве, в ее силе и упорно повторяющемся раскрытии, в невозможности ее исцеления; настоящая загадка для него и редких знахарей, пытавшихся бороться с ней, была в том, что состояние ее не ухудшалось, она не была смертельной, но и не залечивалась. Таким образом рана создала некий постоянный вакуум, в центре которого оказался сам охотник, застрявший меж двух дней, один из которых никак не хотел закончиться, а второй не желал наступать, она образовала стеклянный колокол, выделивший и ограничивший болящее место стеклом, болью, которая, как и сама рана, не могла ни закончиться, ни делаться все сильнее. Таким был порядок вещей, сложившийся в сознании Филоктета во время первых лет его пребывания на Лемносе, маятниковая система улучшения и ухудшения состояния раны.
Так, например, долгое время он пребывал в уверенности, что нервозность, беспокойство духа, страх и мрачные мысли вызывают сильные боли и кровотечение. Позже, отказавшись от неверного предположения, он обнаружил, что хорошее питание и чувство сытости суть главные условия для заживления раны. Далее последовали гипотезы о влиянии на рану постоянных ветров и перемен в погоде, а также самая, наверное, оригинальная мысль о том, что рана болит и гноится только тогда, когда котятся его козы, и боль перестает, как только козлят отлучают от материнского вымени.
Невольно, одну за другой, Филоктет отбрасывал эти системы, как утопающий в зыбучих песках в доли секунды отвлеченно, все еще окрыленный активной надеждой, всё-таки осознает, что и третья, и четвертая ветка, за которую он ухватился, оказалась гнилой. В конце концов дерево, склонившееся над воронкой песчаной ловушки, оказывается голым, без единой веточки. И вот, о чудо, тело вдруг перестает погружаться, оставаясь, тем не менее, намертво схваченным гнетущей массой. Так вдруг и его рана переставала болеть.
После примочки из ядовитых опилок, соструганных с одной из Геракловых стрел, которую он приложил осенью третьего года пребывания на Лемносе, рана стала подсыхать, и в человеке проснулась надежда на выздоровление. Но и это продлилось недолго. С наступлением весны вонь опять стала шибать в нос больного, предвещая новый приступ. И это стало правилом. С осени покой, с весны – гной. Теперь он мог передохнуть хотя бы зимой, но и этот факт обрядился в одежды проклятия, потому что в нём тоже крылось лукавство зловещего змеиного укуса на Тенедосе, прямо на алтаре Аполлона Смитийского, на котором Паламед (это трусливое дерьмо со всеми регалиями великого полководца), опустошив этот остров, принес в жертву в знак благодарности за счастливый исход стычки.
Читать дальше