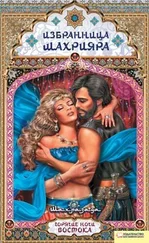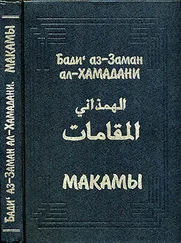От резкой боли в ноге я едва не схожу с ума. Это Шахназ всей своей тяжестью наступила на мою ступню. И прошипела:
– В конце концов ты мне сдашься, красотуля. Сегодня не вышло, значит, завтра, или послезавтра, или… Но ты принадлежишь мне.
Ногу мою всё ещё ломит от боли. Но плакать нельзя. Я прислоняюсь затылком к стене. И вижу наверху крохотное оконце в потолке. Бледный белый свет спускается оттуда тонкой колонной. От вида этого оконца у меня чуть не выросли крылья и потекли слёзы. Я кладу голову на плечо Хатун. Большинство заключённых дремлют. Хатун опускает мне в подол кусок хлеба:
– Возьми, съешь. Обед ты пропустила, а ужин нескоро.
– Ханум, – спрашиваю я, – сколько таких тюрем в городе?
– Откуда мне знать? Десять – двадцать – тридцать…
Раздирающий уши грохот заполняет блок. И ещё усиливается! Все стены от него трясутся.
Я бросаюсь на грудь Хатун: «Что это?!»
– Самолёт, конечно, – она улыбается. – Здесь же рядом аэродром.
Чтобы не мучиться от гула двигателей, я затыкаю уши ватой. Пристёгиваю ремень и прилипаю к иллюминатору. Женщина в зелёной униформе быстро отходит из-под самолёта и делает знак лётчику. Я несколько раз летала из других аэропортов, но в аэропорт Кеннеди попала впервые; это настоящий город. Кстати, и прилёт наш в Америку я почти не помню. Я тогда была сама не своя, и меня за руку тащила мама. Вот, значит, я уже и соскучилась по ней – так быстро! От того скандала, который я устроила ей напоследок, мне становится стыдно. Я вывалила на неё все мои стрессы от беготни последней недели. Самолёт дёргается. Я в смятении. Пока лайнер не взлетел, любая пессимистическая мысль может оказаться разрушительной. В тот миг, когда я поставила ногу на трап самолёта, передо мной ожили тоскливые и полные отчаяния глаза матери. И я побежала вверх по ступенькам через одну и почти влетела в самолёт – к изумлению бортпроводниц. Хорошо, что Нази заупрямилась и не поехала в аэропорт – если бы она была тут, я не смогла бы улететь. Лайнер медленно ползёт по лётному полю. Стюардессы осматривают ремни безопасности каждого пассажира. Ворча, приближается мужчина, он тащит по полу свою сумку. Наверное, он занял чужое место, и его заставили пересесть. Шум и ссора вокруг него дают понять, что многие пассажиры – иранцы, это ободряет. Мужчина подходит к тому ряду, в котором сижу я. Рассмотрев номер кресла, он громко объявляет: «Наконец-то нашёл!»
Кто-то из пассажиров смеётся. Я вынимаю вату из ушей. Полная женщина, сидящая передо мной, с трудом поворачивается назад и говорит: «Мы, иранцы, как только обстановка разрядилась, переходим на фарси».
Мужчина пристраивает сумку и снимает свой кофейного цвета пуловер. Ослабляет узел галстука и снимает очки, оставляя их болтаться на костлявой груди. Влажным платком вытирает высокий лоб и лысину. От той подозрительности, с которой он держится, мне становится не по себе: он даже ручки кресла вытер этим платком!
Самолёт уже над городом. Солнце садится, и Нью-Йорк кажется пепельным. Ностальгия по Таймс-сквер – это что-то новое для меня. От мысли о том, что я, возможно, никогда больше не увижу маму и своих друзей, становится тоскливо. Ничего подобного я до этого к Нью-Йорку не испытывала. Всё как будто сговорилось, чтобы довести меня до слёз. Моя нижняя губа, которую я сильно прикусила во время взлёта, остаётся бесчувственной. Я вынимаю зеркальце и рассматриваю её. Неохота идти умываться. Кончиком языка, слюной я смачиваю губу, и её жжёт.
Пожилого мужчину, сидящего впереди рядом со сладкоречивой женщиной, начинает рвать. Он явно потерял самоконтроль. Распространяется запах. Через его плечо я кидаю ему в руки санитарный пакет. Его соседка зажимает нос и ворчит, потом, не выдержав, встаёт. Движением глаз и бровей даёт понять, как ей плохо, – а мой сосед накрыл лицо платком. «Вот так нам всегда везёт!» – говорит женщина и идёт в хвост самолёта. От нашего места до туалетов в конце салона – всего несколько рядов кресел.
Билет туда и обратно купил мне и вообще помог мой новый знакомый из Исламской организации студентов. Сам он – из Мешхеда и дал мне телефоны и адреса, которыми я вообще-то вряд ли воспользуюсь.
Полная женщина возвращается. Я открываю рот, увидев её расчёсанные волосы, накрашенные губы и большие тени вокруг глаз. Она опирается на спинку собственного кресла и заявляет: «Я чуть не задохнулась».
У ее черной сорочки в сеточку черные рукава выше локтя, а на левой руке я вижу семь или восемь браслетов. Негромко замечаю:
Читать дальше