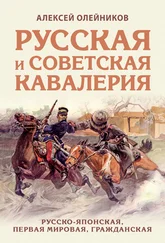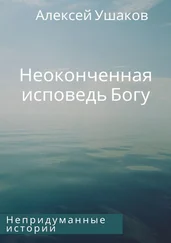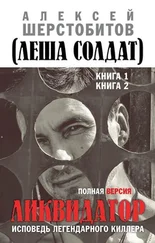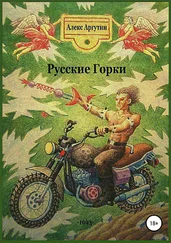Из комнаты на цыпочках, как от уснувшего, вышла Галина. Закрыла дверь к дочке, прошла на кухню и дрожащей рукой вынула из пачки тонкую сигарету. Торопливо затянувшись, сняла трубку домашнего телефона и набрала по очереди номера неотложки и милиции.
Жарким июлем 2008 года я возвращался на поезде из Москвы домой в Питер.
В душное чрево вагона сразу залезть не решился, стоял, курил на платформе. Рядом трогательно прощалась престарелая пара, на которую нельзя было не обратить внимание.
Она – высокая, грузная блондинка, великоросска, с тонкой, но уже дряблой кожей полных рук. Лицо рыхлое, но приятное в своей естественной мимике – без подтяжек. В молодости, видно, была красивой.
Он – еврей, сильно старше её. Можно сказать, совсем старик: согнувшийся, но при этом в модных бежевых слаксах и клетчатой ковбойской рубахе, выбивавшейся из-под потёртого ремня.
– Лялечка, ты мне позвони, как устроишься, – повторял он. – Позвони. А телефон убери, потеряешь.
– Уберу, Боря. И позвоню, – громко отвечала она, поглядывая через его плечо на окружающих и как бы извиняясь. – Ты иди, иди. Иди прямо сейчас.
– Нет, я буду ждать отхода поезда, – упрямо говорил он, придерживая её за локоть. – Мне телефона не жаль. Жаль, если ты не позвонишь.
– Я знаю, знаю, – тихо отвечала она ему (я стоял рядом и слышал), и снова громко: «Иди, ну иди же, Господи.»
Она позволила себя поцеловать, потом мягко, но решительно отстранила его и, кивнув всем, вошла в вагон, со спокойным достоинством опершись на подставленную проводником руку и приняв от него большой чемодан.
Мы оказались с ней в одном купе в компании двух командировочных мужичков, быстро закинувших чиновничьи портфели наверх и торопливо засобиравшихся в ресторан.
Когда все ещё были в сборе, она, уже устроившись у окна, оглядела нас и сказала, то ли гордясь, то ли извиняясь: «Мой муж – нацмен».
– Видели, бабуля, – хихикнули командировочные. – И как вы с ним?
– Тяжело…, но хорошо.
– Сочувствуем, – понимающе переглянулись соседи, подмигнули мне и выскочили из купе.
– А чего ж сочувствовать? – не обидевшись, спросила она уже у меня. – Если хорошо подумать, то можно и позавидовать.
Поезд тронулся, и она помахала ему через пыльное стекло, а он, подпрыгивая, как на верёвочках, двинулся было за вагоном, но тут же отстал, затерявшись среди провожавших.
– Господи, говорила же: иди, – улыбаясь, проворчала она. – Упрямый.
– Меня зовут Алёна Ивановна Петухова, – обратилась она ко мне. – Представляете, три раза замуж ходила – и все три мужа с нерусскими фамилиями. А я как родилась Петуховой, так Петуховой и помру.
За иностранцев замуж ходили?
– Нет, какие иностранцы, наши советские люди. Я расскажу, если вам интересно. И про себя расскажу.
Времени было много, я достал коньяк, разлил и стал слушать её рассказ. Интересный, надо сказать, был рассказ и поучительный. Я не стал бы его записывать, – просто распустил бы на анекдоты, – но сложилось так, что я узнал про неё всё до конца. И вот – записал.
Немножко обо мне послушайте. Потом понятнее будет.
Я – сельская, родилась в деревне Зарубино Высоковского района Торжокского уезда. Правда, красиво звучит? Высоковский район, станция Высокое. Бодро звучит.
От нашей деревни в пятнадцати верстах по полевой дороге – город Старица: небольшой, красивый, аккуратный, на берегу Волги стоит.
Меня ещё не было, но мать рассказывала, что у деда моего Петра Ивановича при нэпе была маслобойня. Дед масло возил продавать в Старицу на базар. Поторговав, обычно выпивал, и лошадь сама везла его до дому, а он спал себе на облучке. Бабушка считала это легкомыслием страшным и ругала деда, но никто его ни разу не ограбил. Был другой случай. Раз, поторговав, дед отошёл к забору пересчитать барыши, а из-за забора вдруг рука высовывается и хвать деньги. Дед бросился к милиционеру, но тот отмахнулся или сделал вид, что не понял. Тогда дед побежал к рыночному авторитету, как теперь говорят. А рынок в то время держали приезжие – ни одного знакомого дед в конторе не нашёл. Но объяснил, с какой бедой пришёл. Посовещались хозяева рынка и отсчитали деду половину суммы. Вторую половину взяли себе за то, что вора найдут: знали, кто это сделал.
Потом раскулачили нас, забрали маслобойню, лошадь, и стали мы жить бедно, как все.
В деревне нашей, когда я родилась, было больше ста домов, церковь своя (заколоченная), клуб. Колхоз не маленький. И жили в деревне не только русские. Была семья Митавских, так, посмотришь: вроде, – как все, но нет: какая-то выправка – не как у нас – у них была, и гордость какая-то – беспричинная, – но они ставили так, что законная. Ещё были южане, с Украины несколько семей. Песни пели – заслушаешься. Но наши тоже петь горазды были. А ешё на гармонике играли, на балалайке. В общем, голосистая деревня была. И дружная. Жила даже татарская семья, как занесло их к нам, не знаю. За кладбищем же у нас стоял цыганский табор.
Читать дальше
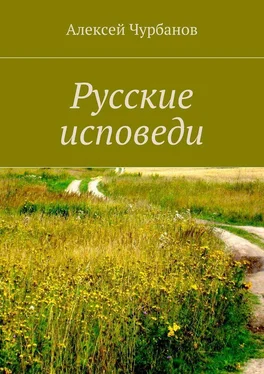
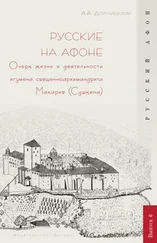
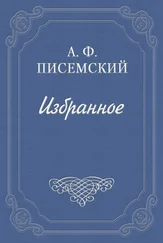


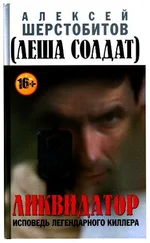

![Алекс Аргутин - Русские горки [СИ]](/books/408172/aleks-argutin-russkie-gorki-si-thumb.webp)