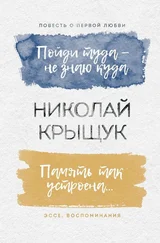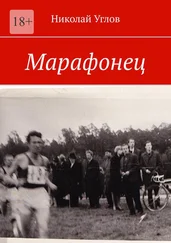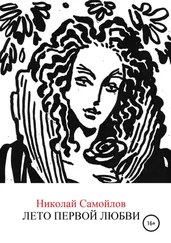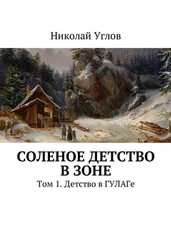И вот он – праздник, и мы выступаем! Причёсанные, в белых рубашечках и чёрных брючках, а девочки все в белом – мы волнуемся, и надо уже становиться в пары (всего их четыре). И вдруг Суворова, глядя смело в лицо Марины, заявила:
– Мария Георгиевна! Я не буду танцевать с вашим сыном. Поставьте меня в паре с Колей!
Мария Георгиевна сначала опешила, затем начала убеждать Нину:
– Ниночка! Как ты не можешь понять – всё может сейчас поломаться. Вы же привыкли друг к другу! Надо было раньше сказать мне об этом. Сейчас занавес откроется – не упорствуй, Нина. Я тебя очень прошу!
Но Нина настаивала на своём. Вовка вспыхнул и закричал нервно:
– Мама, пускай идёт в паре с кем хочет! Коза-дереза! Возомнила из себя красотку!
Занавес раздвинулся. Марина кивнула Суворовой, сдавшись. Мы быстро стали в ряд. Я сначала разволновался, смешался, покраснел, и сразу было забыл весь танец. Взялись за руки. Пяточка, носок, правой два раза, притопнули обеими ногами, и пошли по кругу весело и задорно под гармонь. Я весь сиял, Нина тоже улыбалась, а во второй паре злой Вовка швырял угрюмую Зинку, и всё старался наступить нам на пятки.
Жизнь в детдоме кипела, бурлила. Подъём, зарядка, умывание холодной водой во дворе из трубы, в которой сделаны самодельные соски-краны. Затем санитарный осмотр, где придирчивые дежурные девчонки обязательно проверят заправку постелей и заставят переделать, если сделано неряшливо. Затем проверят и самого – как одежда, обувь, ногти, стрижка. Перед входом в столовую ещё раз покажи руки ладошками вверх и вниз. В столовой тоже не шуми, не кричи, а то выгонят, и будешь голодный до обеда. Порции очень маленькие, а так ещё хочется поесть свеклы, обжаренной в чёрной муке или макарон на маргарине. Затем учёба, а после занятий обязательный общий хор, на котором Лукушина разучивала с нами новую песню про Ленина и Сталина:
Ой, как первый сокол,
Со вторым прощался,
Он с предсмертным словом,
К другу обращался…
Затем обед, зимой «мёртвый час», два часа труда и перед ужином личное время – самое долгожданное, когда можно было исчезнуть от воспитателей во главе с вездесущим Микрюковым.
Наступила весна, и везде надо было мне побывать, т. к. уже места становились знакомые, обжитые. Шмаков поручил нашей группе ремонт и изготовление новых скворечников – их наделали больше тридцати. Я впервые в жизни изготовил сам скворечник, повесил его рядом с детдомом на дереве так, чтобы можно было наблюдать за ним из класса. С этих пор началась моя любовь к скворцам, которая не прошла и сейчас. Опять начались лесные палы— пожары, опять меня тянула речка с её ледоходом, пруд с его кишащими чёрными гальянами, мельница с водопадом, мокрые луга, кочки и лес, стеной подступавший к детдому со стороны Уголков. Возвращался мокрый, грязный, исцарапанный.
И вот уже опять эта проклятая линейка, где никак не ускользнуть от директора. Руки и ноги опять покрылись цыпками. Кожа покраснела, потрескалась, из рубцов сочилась кровь. Тихая и добрая няня ворчала, смазывая солидолом мои раны:
– Вот пострел, что натворил! Эк, угораздило! Где же тебя так носит? Зачем ты лезешь в воду? Смотри, что творится с руками, ногами?
– Ой, больно! Не надо так! Тихо, тише, очень больно!
– Всё, всё! Не дёргайся! Сейчас только перевяжу ноги вот этими кусками простыней. Старайся не елозить ногами, чтобы ночью не сорвать. К утру заживёт.
И, правда, утром было значительно легче. Но наступал день, опять всё забывалось, и я с друзьями лезли в пруд за мордушками, выслеживали лягушек и их икру между кочками в болотах. Лягушечья икра висела крупными шарами между кочками, и мы любили ею кидаться в тёплой воде так, что к вечеру остатки икры были в ушах, на голове и на одежде. В лесу плюхались с высоких кочек, оступаясь, когда зарили гнёзда сорок и ворон. Опять я начал получать выговоры и наказания от Микрюкова, и моя мечта попасть в поход со Шмаковым на озёра рухнула. Шурка стал писать стишки и маленькие рассказы в стенгазету – его стали хвалить.
К матери в прачечную мы забегали теперь реже. В тесном помещении всегда был пар, душно, влажно. Бельё везде лежало горками – и стиранное и грязное, мокрое, глаженое. Пахло щёлоком, мылом и дымом от печки. Мать заученными движениями на ребристой доске «ширкает» бельё правой рукой, придерживая левой снизу бельё и доску. Мыльная пена накапливается, и мы хватаем её, пускаем пузырей. Зимой интересно было наблюдать, когда мать заносила мороженое бельё, которое топорщилось, занимало всю комнату. От белья исходил приятный свежий запах. Мать жаловалась, плакала, трясла озябшими руками и совала их к печке, ругала ужасный мороз и всю эту «проклятую жизнь». Поплакав, начинала нас угощать чем-нибудь немудрящим – картошкой, овсяным киселём, хлебом с комбижиром. Жаловалась, что Микрюков её «заедает», придирается, возвращает часто в повторную стирку абсолютно чистое бельё, унижает её досмотрами, ревизиями и проверками; маркирует каждый кусок мыла по нескольку раз в день. Ей трудно обстирывать почти 200 человек, а помощницу он не даёт, но зато следит, чтобы она не «ходила и не ела на кухню». Было жалко её, больно было смотреть на её слёзы, а иногда, после её громких причитаний навзрыд мы и сами ревели.
Читать дальше