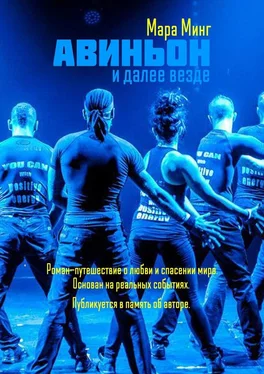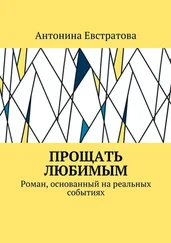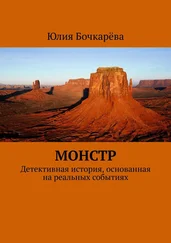Так может, вдруг снова мелькнула мысль, я и правда прикидываюсь тем, кем больше не являюсь? Обманом просочилась в чужое кино и хожу тут, делаю вид? Положа руку на сердце: я ведь уже вышла из лиги веселых и находчивых. Как говорят (смешно говорят), остепенилась . Года три как жила довольно ровно, и не сказать, что скучно. Нет, была довольна. Сперва, как шутила, была одной ногой замужем, работала в шумном женском журнале, где меня, в общем, любили. Устала, перегорела, захотела в очередной раз все изменить (резкие движения за мной никогда не ржавели). Два года убила на второе образование: решила стать специалистом по антиквариату. Самонадеянно, да, но меня всегда завораживали предметы с историей (это началось с археологических экспедиций, куда я ездила в детстве). «Ну, как там яйца Фаберже?» – ехидно интересовались бывшие коллеги-журналисты. Яйца были хорошо, вот только я ни разу их не видела: в основном, мне приходилось иметь дело с живописью; так получилось. Вообще, меня интересовало антикварное оружие, но к оружейникам я пробиться не успела. Не успела – или отвела судьба, не знаю: бодливой корове, как говорится. Уже не суть. После института я устроилась в частную художественную галерею, где научилась называть Айвазовского Айвазом ( чему бы полезному научилась, говорил папа в таких случаях), понимать лексику экспертных заключений, продумывать развеску картин на стенах. В итоге вышло не так уж плохо. Антикварный мир, мир переливчатых иллюзий и изящных мистификаций, я полюбила, он завораживал меня: все было так сомнительно, так красиво. Я любила слушать, как переругиваются эксперты («Захаров сказал, фальшак!» – «А вы Захарова слушайте, с ним уже ни один музей не работает»), смотреть как реставраторы ваткой, обмотанной вокруг кончика кисти, еле касаясь, снимают по миллимикрону старый лак с картины восемнадцатого века – снимают часами; спокойно стоят, вглядываясь в квадратик холста размером со спичечный коробок. Любила веселый балаган Антикварного Салона («что продают, сами не знают, но хотят восемьдесят!»). Любила шум аукционного зала, когда идет борьба – за что идет? – да за какую-то ерунду, слова доброго не стоит, но всех уже понесло, не остановить; лица красные как на ипподроме, глаза как плошки: восемьсот! Восемьсот двадцать! Девятьсот пятьдесят!
Периодически мы с Лешей ходили в оперу – я наряжалась, он поил меня шампанским в буфете – ходили в музей. Иногда он возил меня ужинать в элегантные заведения, и мы хихикали, втихушку разглядывая расфуфыренных соседей за соседними столиками. Потом – когда с Лешей все кончилось и я поселилась с Аселией – еще полгода сидела тихо, днем листала книжки в своей галерее, вечерами читала викторианский роман. В оперу уже ходила с Сонюшей. По выходным протирала стулья в модных барах. Потихоньку начала делать свой интернет-магазин (пообщаться с арт-дилерами, попробовать, покрутиться; свою настоящую галерею в городе бы не потянула, конечно, откуда такие деньги – а в интернете был шанс; разумеется, посредничество, не более того), кое-кто уже согласился помочь. Все как-то завертелось: тут же позвонили другие, те самые ребята из антикварной фирмы; позвали запускать у них издательский отдел. Им нравилось, как я пишу, плюс, я была, что называется, толковая . Ответственная. Они мне тоже понравились – только в офис все равно не хотелось. Я попросила отсрочку: сказала, вернусь из Европы, и возьмемся за дело. Так и договорились.
Зарабатывала хорошо, то есть – вообще не жаловалась. Квартира у нас с Аселией была дорогущая, хоть и маленькая. Зато под окнами лес.
Откуда взялась вся эта прекрасная жизнь? От жадности, конечно.
Откуда взялось все остальное? Тоже от жадности. Просто совсем другого сорта.
Жадина-говядина.
– –
Быстро мы не продвигались: Джон все время натыкался на знакомых. Кому-то молча и весело жал руку, не замедляя шага – это походило на па, вырванное из народного танца – а с кем-то останавливался перекинуться парой слов, быстро и жарко. Тогда я перетаптывалась рядом, в полной мере ощущая, что такое быть иностранкой в гостях: уже не туристка, но еще не местная. Нас с Джоном выручал английский, но в Авиньоне люди предпочитали родной язык.
Какая ирония: я начала учить французский примерно в то же время, что и писать палочки. Сама захотела. Родители одобряли: девочке пригодится второй иностранный. Может, она станет переводчиком. Или захочет уехать? Это было начало перестройки: никто из нас никуда не ездил, не видел в глаза никаких иностранцев, но эмиграция была тем, чего яростно желали детям. Уехать из этой проклятой страны, да подальше. Забыть ее насовсем. Пишите письма.
Читать дальше