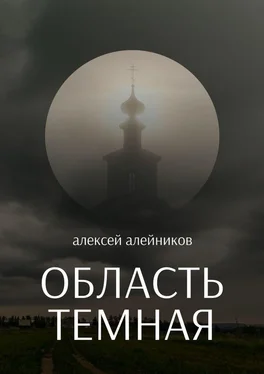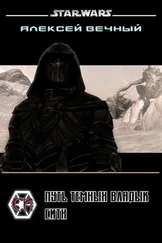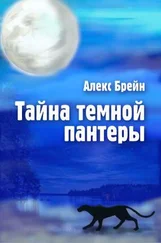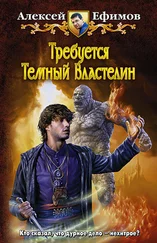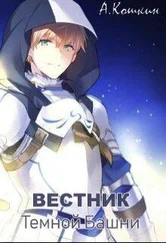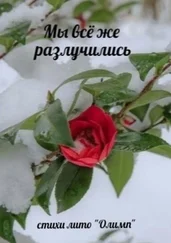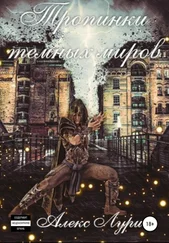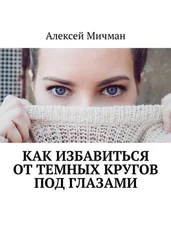Анастасия Покровская
Как случилось, что мы расстались, я и не поняла. Прибежала к Павлуше, как обычно, а его на условленном месте нет. Замёрзшая, расстроенная, битый час прождала и вернулась в училище. На другой день на прогулке подбегает шпанёнок, чумазый такой, и записочку тычет. Развернула, буквы скачут, никак прочесть не могу. Успокоилась немного, читаю: «Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение – успех революции».
Ничего я не поняла, догадалась только, что закончились наши милования, не пройтись мне в белом перед церковью. Проплакала неделю. Девчонки в толк взять не могут, что стряслось. И так, и этак расспрашивают, пожалеть пытаются, но я гордая – просто реву и всё. Только Маша знает мою печаль-кручину, но молчит подруга верная, никому не выдаёт.
Во взрослении и учёбе наступил неспокойный тысяча девятьсот пятый. Год, принёсший на землю российскую беду под названием «революция». Правда, первой русской революцией эти нестроения назвали гораздо позднее, в советских учебниках. Для живущих же в те времена это был апофеоз долгой и мучительной борьбы сил тьмы, как внутренних, так и внешних, желавших уничтожить державу российскую, и всего светлого и крепкого, что ещё сохраняло привычное течение жизни.
Первым камнем, приведшим к сходу революционной лавины, принято считать тот страшный день, 9 января 1905 года, когда мирная демонстрация рабочих, идущих с петицией к царю, была встречена выстрелами солдат. На самом деле уже много лет шла война внутри державы. Революционеры всех мастей, поощряемые силами извне, убивали выстрелами из револьверов, взрывали бомбами преданных царю и отечеству чиновников и военных ― тех, кто, не убоявшись угроз, продолжал служить России. Да что там! Самого царя-освободителя Александра II убили взрывом бомбы.
«Кровавое воскресенье», забастовки по всей стране, крестьянские бунты на Украине и в Поволжье – всё это знаки рвущегося наружу беса уничтожения. В стране, истекающей кровью в войне на Дальнем Востоке, ослабленной длящимся десятилетиями террором, ему удалось вырваться и натворить неисчислимых бед.
Переходя к воспоминаниям о тех днях, отец Пётр суровел ликом и начинал говорить глуше, точно до сих пор переживая беду Российской державы.
– Ранней весной, на Крестопоклонной неделе, года от Рождества Христова тысяча девятьсот пятого, отец инспектор классов, священник Димитрий Рысев, проходя мимо нашего дортуара, учуял подозрительную возню. Наверное, подумал, что «мерзавцы опять курят», и распахнул рывком резко скрипнувшую дверь. И сейчас помню удивлённого цербера, застывшего на пороге: семинаристы не дымили самокрутками, не лакали втихаря горькую и даже не резались в карты на щелобаны. Отложив грубые бурсацкие забавы, мы, прильнув к стёклам, напряжённо вглядывались в заоконную мглу. Там, в поместье графа Целиковского, в полутора вёрстах от семинарии, кромсали ночь алые сполохи и метались гигантские, до неба, тени. Тотчас ударили в набат.
– Наутро пришло известие, что ночью кто-то поджёг графу конюшню и сеновал. Лошадей, чистокровных ахалкетинцев, спасти не удалось.
Шептались о том, что лихие люди не только лошадей погубить хотели – едва не зарезали и хозяина, и всю его семью. Спас Целиковских поручик, ночевавший в поместье. Не убоявшись татей, выскочил он, в чём мать родила, во двор, уложил из револьвера двух налётчиков, третьего зарубил, да сам погиб в неравной схватке.
Хуже всего было то, что опознали грабителей: трое убитых – крестьяне из ближних сёл.
А тут ещё пришли вести о забастовках и волнениях в Петербурге. Неспокойно стало и в нашем городе, тревожно.
Отец Павел присоединялся к рассказу брата.
– Ученики старших классов сбегали в город. Крестьянские лошади косились на гогочущих семинаристов и пряли ушами. Хозяева каурых и саврасых, закованные в неподвижность зипунов крестьяне, ворчали и осуждающе водили из стороны в сторону густыми бородами. Но больше всех от наглых бурсаков доставалось симпатичным девушкам и городовым. Красоток мы заставляли густо пунцоветь и перебегать на другую сторону улицы, подальше от сыплющих скабрёзными шуточками семинаристов. Городовые при виде такого безобразия тянулись к висящим на боку шашкам. Но не тут-то было: ловок брат-бурсак и вертляв – разве догонишь?
Читать дальше