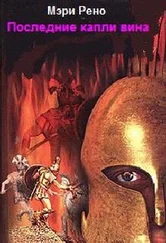1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 Это всё, что осталось для меня от России. Всё, что я годами собирала об этой стране, помнила из детства, из книг и интернета, гигабайты фактов, лиц, картинок и слов. Всё сжалось, чтобы уместиться в один кадр: я в ужасе, я виновата и не справляюсь с дрожью. Белоснежные кружева, лица и море живых цветов. Их удушливый, тяжелый запах окутывает гроб. Задрапированный чуть розоватым атласом, словно слепленный из сахарной ваты, он стоит прямо передо мной. Он отражает солнечные блики и кажется невесомым. В нем спит царевна. Ей снятся кошмары.
Катя отравилась в съемной квартире на Ленинском проспекте. Вот уже год я постоянно спрашиваю себя, почему».
***
Больше добавить было нечего. Женька подняла глаза от компьютера и обвела комнату отсутствующим взглядом.
Охристый ковер с абстрактным рисунком из тонких линий, черное кресло, мягкое и глубокое. Белый комод. Белые жалюзи. На белых стенах старые фотографии членов семьи. Рамы, окаймляющие эти пожелтевшие фотокарточки, окрашенные в черный, кажутся современниками фотографий. На самом деле эти рамки – новые. А фотографии Женька пару лет назад купила в антикварной лавочке на Ньюве Спигелстраат. Этих людей уже никто не помнил, и они достались Жене, словно та и впрямь была самой родной праправнучкой. Не нашлось никого, кто бы претендовал на них, – и Женька забрала их в свое совсем новое жилье. Несколько вечеров она с трепетом, любопытством и какой-то невыразимой жалостью рассматривала этих людей. Каких-то сто, может быть, сто пятьдесят лет назад они дышали, любили, мучились в родах и заворачивали подарки, ездили на велосипедах и верхом, они думали, боялись, спорили – и теперь никто не мог рассказать ей, кто они. Женька раскладывала их перед собой на полу, ходила среди них, присаживалась рядом и смотрела им в глаза. Они молчали, но как много знали они о жизни такого, чего ей уже никогда не узнать. Никто их не помнит. Потом она собирала снимки в стопку, убирала в ящик прикроватной тумбочки и ложилась спать. Сон не шел – образы брали ее мозг штурмом, пожелтевшие глянцевые лица всплывали перед ней, дамы шуршали длинными подолами, кокетливо выставив ножку в туфельке на невысоком каблуке, поправляли шляпки, чтобы остаться такими навсегда, чтобы потрескаться, пожелтеть, чтобы еще сто пятьдесят лет пылиться в корзине на чердаке или в альбоме на полке, а потом, полежав в магазине среди старинных безделушек, переехать сюда, на Розмаряйнстейх, в четырехэтажный дом с почти черным фасадом… Чтоб остаться без имён, без биографий, но остаться. Дамы были легкомысленны и чисты. Их спутники – подтянуты и безмолвны, в военных мундирах и аккуратных бородах а-ля Франц Иосиф. Сейчас Женьке вспомнилось, как покупала для них рамки, как сидя тут же, на полу, вся перемазанная акриловой краской, красила каждую и покрывала кракелюрным лаком, создающим трещины. Как не получалось, и на некоторых трещины не появлялись – такую раму приходилось отравлять в мусорный пакет. Как заботливо укладывала всех этих людей прямо на стекло, словно хрупких бабочек и укрыв картонными прямоугольниками, вставляла в рамку. Как вешала на стены. Над кроватью поселились самые любимые карточки. Их две. На одной мальчишка на деревянной лошадке – вихрастый и серьезный. Женька назвала его «Мой прапрадедушка» и иногда нет-нет да и подмигнет этому всаднику в белой матроске. На другой – годовалый ребенок, то ли мальчик, то ли девочка – теперь уже никогда не узнать – с короткими растрепанными волосенками, в ситцевых панталончиках и длинной вышитой рубашонке. Стоит на стуле, ножки смешные, толстенькие, в кожаных ботиночках. Стоит нетвердо, в глазах испуг. А сзади, вынырнув из-под занавески, женская рука украдкой придерживает его за щиколотку. Незаметно и едва ли надежно, – но он не упадет. Не должен упасть.
Этот снимок не дает ей покоя – иногда она встает на кровать и долго-долго рассматривает эту руку под краешком занавески. Кто она, эта женщина, какой она была, какими были ее лицо и фигура? Была ли она добра и сколько лет прожила на свете? Не пережила ли она этого малютку, варила ли по осени варенье из яблок или имела штат прислуги? Носила ли белоснежный чепец с кружевами или тонкую вуаль на дорогой парижской шляпке? Была ли счастлива или проклинала момент своего рождения? Эту фотографию Женька назвала «Мама». И пусть на снимке всего лишь краешек ее ладони. Пусть этот малыш вырос в великого политика и повернул ход истории или спился и окончил жизнь в клинике для умалишенных. Неважно. Ну просто… Эта женщина за занавеской… это не может быть няня.
Читать дальше