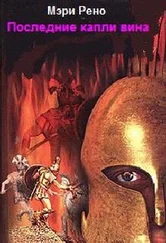Как-то дома с подружками я самозабвенно рассказывала о нашем дворянском поместье в тридцати верстах от Москвы, где вальсировали Александр Пушкин и Юрий Гагарин, где в сени вековых лип творили Станиславский, Достоевский и кто-то еще из великих. Помнится, я не сверялась с датами их жизни, но девчонки ничего не понимали, и эта геральдическая галиматья имела успех. И тут в комнату вошел папа! Он так и застыл с открытым ртом, когда узнал, каких я, оказывается, ультрамариновых кровей. Стало ужасно неловко, словно я отреклась от него, любимого папы-Рудольфа, а не от неких выродков Ковыркиных, спихнувших меня в детский дом. Папа сказал, что зайдет попозже – и удалился. Девчонок же по-настоящему захватила эта романтическая чушь, воображение их разбушевалось, им хотелось слушать дальше, но я была уже сама не своя от смущения, отвечала невпопад, а потом, сославшись на необходимость помочь маме по хозяйству, выпроводила их. Вечером отец позвал меня к себе в кабинет и, смеясь, изложил, что слышал. Помню, как бешено стучали часы на стене и мое сердце. Но папа нашел эту выходку забавной. Только поправил «не Дягилев, а Дягилева. Русские добавляют «а», если фамилия женская. А впрочем, здесь это неважно!»
С той минуты я больше не была экс-Ковыркиной – папа известил маму, и бессмертный Сергей Дягилев вальяжно вплыл в мою родословную. Кстати, на моем левом плече вытатуирован его карандашный портрет, нарисованный когда-то Федором Шаляпиным. Мне подарил его копию папа, когда мне было восемнадцать, а в душе боролись эйфория и депрессия, и я жила с безумцами-хиппи. Это был шифр. Мне от него. Лично, секретно. Зашифрованные в рисунке несказанные слова столь необходимой мне поддержки. Каким-то шестым чувством папе всегда удается постичь мои потребности. Тогда он знал, что мне не вынести разговоров. Никаких. И прислал мне рисунок. Самый лучший, какой только мог. Рисунок, который явно означал «Я принимаю тебя такой, какой ты хочешь быть». Папа сказал мне этим, что я могу всегда быть уверена в его любви и поддержке. Теперь я это понимаю. А тогда я просто пошла к какому-то новому приятелю, и он за два часа выбил то же самое на моем плече. Позднее, когда папа увидел мой отклик на его послание, он лишь многозначительно покачал головой, потер переносицу и задумчиво сказал, что, насколько ему известно, есть еще один карандашный портрет Дягилева – работы Жана Кокто. Можно сделать на лбу… По тону я не поняла, рассмеяться мне или повиниться. Но папе не надо моих раскаяний. Ничьих не надо. Он просто не смог сдержать иронии. Не ожидал. Ему было важно то, что он мне этим подарком сказал. И, наверно, неприятно, что я этого не услышала. Мне и сейчас еще не по себе. Хотя, папа с Дягилевым на моем плече давно свыкся. Как и с тем, что я веду от него родословную. Мама, кстати, от моего самозванства в восторг не пришла, ее и по сей день бесит, что я Евгения Дягилев-Аудендейк.
Ну что ж, расскажу вкратце, кто еще есть в моей жизни. Поехали, в хаотичном порядке:
Для начала, персонаж абсолютно тарантиновский – старая мэфроу Аудендейк. Моя бабушка. Грандиозная, как выход человека в открытый космос. Искусствовед, доктор исторических наук. В течение жизни побывала членом такого количества творческих мастерских, объединений, обществ и союзов, что в неизбежном будущем для панихиды нам придется арендовать стадион.
Как ни абсурдно – это папина мама. Они полностью противоположны друг другу во всем. Бабушка на досуге все еще изредка понюхивает кокаин, а ее сын точно знает, как он отражается на деятельности нервной системы. Да, она нюхает кокаин, как кто-то полирует ногти – невозмутимо и с полной уверенностью, что так оно лучше, чем не так. Я не вижу в этом ничего такого – ба делает это с таких незапамятных времен, что если ей кто и судья, то это точно не человек моего поколения.
Ба – моя единомышленница. В том смысле, что в определенном возрасте ей тоже были не чужды соблазны однополой любви. Но это было баловством, не более. Самой большой ее любовью был и остается мой дедуля, которого я тоже люблю, хоть и не застала. Вдовство по нему она носит как высший орден, что не мешает ей кружить головы, и не только на словах. Некоторые считают, что поведение ба слишком легкое для ее возраста и статуса, но это, в основном, завистницы. У бабушки всю мою жизнь живет мужчина для всего сразу – он сильный, с большими ладонями и никто не помнит его настоящее имя. Ба без ложных реверансов зовет его просто Мафусаил, хотя это далеко не самый старый из всех, кого я знаю. Так или иначе, все привыкли звать его так. Он – тем более. Так и оставим. Они живут хорошо, дружно. Я люблю у них бывать.
Читать дальше