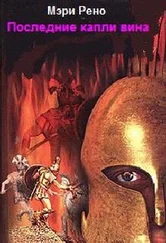В ней столько несуразностей, битых файлов, не под тем углом выпирающих суждений… Она думает, что что-то понимает в окружающей ее жизни. Это почти всегда не так. Она тот, кто лучше всего прочего умеет путаться в себе и ошибаться в людях.
Наверно, это результат стремления вопреки всем быть собой. Наконец-то стать собой и ею же остаться. Это трудно, ужас как трудно, когда ты с младенчества оклеен ярлыками, как старый чемодан. Женьке скоро тридцать, а она всё еще совсем себе не хозяйка. Например, не умеет скрыть эмоции. Их сразу видно на лице – таком открытом и скуластом, словно в длинную очередь ее предков под шумок втёрся хитрый потомок Чингисхана. У нее хорошенькое, но резковато очерченное лицо, и будь она мальчишкой, то без сомнения, пронзала бы сердца самых неприступных школьниц. Но для девушки такая внешность, пожалуй, слишком задиристая. Обесцвеченные волосы такой длины, что челка легко достает до кончика носа, и чуть вздернутый нос этот довершают приговор – Женька отнюдь не Даная. Если бы Рембрандт писал ее портрет, то вряд ли облек бы ее в жемчуга и бархат. Он увековечил бы ее верхом на заборе, в старой соломенной шляпе и босиком. Грызущей яблоко. А скорее всего, Рембрандт просто не взялся бы. Но Женьке нравится свое отражение в зеркале, и, кстати, не ей одной.
Последний штрих: она точно знает, какой хотела бы быть в идеале. Она хотела бы быть как Мадонна. Целеустремленной стервой, неуклонно берущей свое и чужое, без разбора, без стыда, без страха. А в душе, забыв про то, что жизнь – борьба, она хотела бы быть, как Катя. Катя – такой же русский приёмыш в голландской семье, ее единственная по-настоящему близкая русскоязычная подруга, – та, которой больше нет. Всё, что от нее осталось, – это несколько писем из Москвы. Она уехала туда, и больше не вернулась.
***
Только что Женька зарегистрировалась в Живом Журнале и стала набирать первое, что приходит в голову при мысли о себе. Прошлой ночью ей нестерпимо захотелось написать автобиографию. И она приступила.
«Мне 26, живу в Амстердаме, работаю на телевидении. Мои родители Марго и Рудольф живут неподалеку, и это очень удобно. Им, конечно, не мне. Их до сих пор волнует каждый мой вздох. Не удивлюсь, если мама тайно ведет календарик моих месячных. Папин надзор куда деликатнее, его почти незаметно. За это ему спасибо. Нет, правда, мамы вполне достаточно…
Начну с того, что приобрели меня нелегально. Документы, по которым меня вывезли из России, липовые, поэтому и на взятки ушла неприлично крупная сумма. Ну, видимо, я того стою. Не хочется думать, что родители просто переплатили. Миссия моей жизни – окупиться, оправдать вложенные деньги и нервы маман. Это как если бы мне дали кредит, не спросив, согласна ли я его выплачивать, и который я, кстати, даже в руках не подержала. Скажем так, моральный кредит выдан на мое имя, распоряжаются им родители, а выплачиваю я. Он такой большой, что, скорее всего, пожизненный.
Рудольф и Марго привезли меня из саратовского детдома. Саратов – это в России. В европейской ее части. На юго-востоке.
Как объяснил мне папа, люди в России к концу ХХ века устали жить своим умом, решили пожить нашим, западным, и затеяли Перестройку. Это типа государственного переворота, только без смысла. Мечты были, а плана не было. Cудя по новостям, (раньше я отслеживала их в интернете постоянно) в России всегда всё ставят с ног на голову и ничего они так и не перестроили. То есть, они думают, что перестроили, но это не так. Тем не менее, в той неразберихе меня, как буханку хлеба в голодные дни, через подвальное окошко за целую сумку долларов продали маме с папой. Про подвальное окошко, это я, конечно, присочинила… А вот сумка долларов была. Сумка была практически в мой рост и вес, то есть я куплена на вес долларов. Даже в десять раз дороже, потому что купюры были десятидолларовые. Маме еще пришлось отдать посреднице свою дубленку. В России это был дикий дефицит и по-настоящему царский предмет гардероба, типа мантии из горностая, а на меня претендовали еще какие-то европейцы. Датчане или шведы, точно не знаю. В общем, мама была вынуждена подарить дубленку посреднице сделки и уехать в каком-то ужасном пальто. Зато со мной.
В общем, я русская. Мама говорит «ты давно уже не русская, и думать не смей!» Тогда зачем мне напоминают о русском происхождении по шесть раз на дню – ума не приложу.
Что ж, ок, я – нидерландка. Но, по-моему, некоторые по сей день напряженно ждут от меня пьяного дебоша под балалайку и плясок в валенках на босу ногу. Не реагировать на это трудно. Я словно каждый день сдаю экзамен на ассимиляцию. Или скорее анализы. По степени обнаженности и дискомфорта – явно анализы.
Читать дальше