Марат Агинян
Ежевичные сны
Вернемся к знакомым снам…
А. Кудрявицкий
Рассказывают.
Одной девушке приснилось, будто она стоит
на взлетной полосе аэродрома, одна, среди ночи.
И вот, на инвалидной коляске к ней подкатил мальчик.
И сказал: «Я только два раза летал на самолете: раз и два».
…
Я знал лишь одного человека, владеющего искусством сна. Остальные отдаются своим сновидениям с той же безвольностью, с какой они, например, отдаются любви.
Я знаю, как они смотрят сны: с вытаращенными глазами. Точно так же они, как вкопанные, стоят и смотрят, как приходит и уходит их любовь. Они пытаются проснуться, но проснуться им – некуда.
…
Тот, о ком я говорю, носил много имен, но он их стряхивал с себя, как свои сны. Я слышал, что он пришел из февраля. Знаю, что он различает все двенадцать оттенков воздуха. Носит серый свитер, весь обсыпанный пикселами осенней росы. Любит желтый чай и в совершенстве владеет языком молчания. На языке молчания он может передать слово «хлеб» тремя оттенками тишины, слово «рука» – семью, «любовь» – тридцатью одним, а «печаль» – сто двадцатью семью.
Таков он, февральский человек.
…
Я взялся за трудное дело.
Я взялся рассказать историю, услышанную от февральского человека, точнее, увиденную, так как он показал ее моему взору на языке молчания, а еще точнее, прочувствованную, поскольку жесты молчания нельзя ни услышать, ни увидеть; их можно лишь обнаружить в своем внутреннем тумане.
Я мог бы передать вам свой смех: так я смеюсь над теми, кто не может выпутаться из моих слов. Но еще пуще я смеюсь над теми, кто пытается в узорах моих слов что-то для себя узреть. Я мог бы передать вам смех февральского человека: так он смеется надо мной, пытающегося вам что-то втолковать.
Но вы, способные читать мой смех по буквам и верно ответить, из каких запахов я его сплел, еще не родились.
А до остальных мне нет дела.
…
Им снится горная речка. Они стоят на мглистом берегу и пялятся на быструю воду, пытаясь увидеть в черных потоках картины своей судьбы; они не подозревают, что их сюда привело чувство речного камня на холодной ладони. Им снится полет паутин; они, защищаясь от солнца рукой, стараются в разорванных белых нитях увидеть недоумевающего паука – и так избежать опасности; им невдомек, что солнце сновидений не слепит глаза. Им снится запах стен дома далекого детства, они трогают печальную гризайль потускневших от времени стен и плачут, не зная, что серые разводы – это линии цвета запаха тоски по детству.
Такие они: те, до кого мне нет дела.
…
И вот, сидим мы, два сновидца, на крыльце дома моей тоски; синяя луна дрожит в стакане желтого чая в медленной бледной руке, и мы рассматриваем повиличные узоры тихого дыма моих нескончаемых папирос. И тянутся нити молчания, и я ухожу в свой туман, перебирая их быстрой рукой.
Чувство присутствия краешка хлеба рисует мне шепот росы, и чувство готовности ветки в руке раскрывает зеленый овраг.
В этом овраге, обросшем густой ежевикой, живет тот мальчик, о котором прольется рассказ.
…
Мужчина жил в бревенчатом флигеле, погруженном в мягкую зелень курчавой мальвы, спасаясь от сухого шума мира людей: он здесь нашел возможность сквозь окна услышать тишину падения листьев яблони на дощатый стол, стоящий в укромном дворе.
Здесь он жил, освобожденный от необходимости произносить слова и чувствовать себя неловко за их нищету. Он мог сколько угодно сидеть за скрипучим столом и наблюдать за предутренней дрожью люпинов, охвативших заброшенный сад. Дом, большой, каменный, что стоял неподалеку, давно пустовал, и некому было порой говорить, напомнить, что кофе в фарфоровой кружке, подаренной кем-то ненужным, остыл, и давно. Здесь он мог и заснуть за столом, и не знать, что сырость от досок стола проникла в его рукава. Здесь он мог заболеть, лечь в постель, отболеть – и никто б не узнал.
– Но зачем он пришел в этот флигель?
– Он пришел здесь стареть.
…
Он видел не дление минут, но их глубину. Он видел на дне их – холодный орнамент тоски. И вот, окунувшись до донного камня, он ставил пластинки и слушал шуршащую старь.
Он из тех, кто закрывает глаза, чтоб смотреть. Он кофе лишь пил ради безвыходной горечи. Так, погружаясь во мрак родной глубины, он избегал заботы расчета часов.
Читать дальше


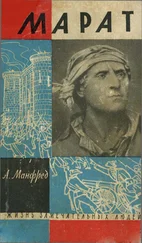
![Айзек Азимов - Робот, который видел сны [Сны роботов]](/books/340771/ajzek-azimov-robot-kotoryj-videl-sny-sny-robotov-thumb.webp)



![Марат Салихов - Продажи. Простые рецепты повышения эффективности продаж от Марата Салихова [publisher - SelfPub]](/books/438102/marat-salihov-prodazhi-prostye-recepty-povysheniya-e-thumb.webp)




