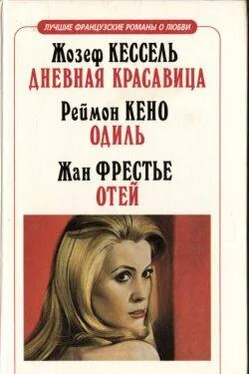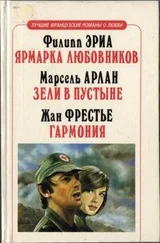– Доктор, прибор издает какой-то странный звук. Я обернулся к Марине. Проверил контакты, амперметр.
– Да нет же, все в порядке.
Иногда, глядя на эту хорошенькую девушку, лежащую на смотровом столе почти в раздетом виде, я с удивлением внезапно осознавал всю ненормальность положения, в которое ставила меня моя профессия.
Я улыбнулся Марине. Прошелся по комнате. Вновь вернулся к своему посту у окна, словно кого-то ждал.
Я сердился на Ирэн за ее отсутствие. После ее отъезда я уже не раз начинал подсчитывать свои к ней претензии: ее холодность, ее молчание, ее непреклонность – все то, чем она ограничивала мою свободу, и не исключено, что преднамеренно. «Кто знает, вдруг она методично применяет ко мне систему, жертвой которой когда-то оказалась сама? Мужчина делает большую ошибку, если начинает встречаться с женщиной, не зная, за какую старую рану у нее есть повод отомстить!»
Ирэн, неосознанно провоцирующая мои подозрения, чтобы свести со мной счеты, – такая гипотеза мне подходила. Она успокаивала мою ревность. И вместе с тем оправдывала состояние бунта, которое я уже давно незаметно поддерживал в тайниках своей души, в своем черном ящике. Я любил Ирэн, но недоверие загнало в подполье часть моих сил. Иногда я усиливал это сопротивление, иногда – уменьшал.
Я играл своими настроениями, как другие люди играют волей. Прислонившись лбом к стеклу, я ждал возвращения Ирэн или любого другого события, способного освободить меня от этого ожидания. Марина болтала у меня за спиной. «В Сен-Лу вечером, после девяти часов, улицы пусты. Когда возвращаешься из кино, становится страшно». Я отвечал рассеянно, повторяя: «Да», «Конечно», «Неужели?» Я спрашивал себя, какого рода освобождение могла мне дать Марина. Я обернулся, увидел ее, лежавшую на смотровом столе, словно неодушевленный предмет. Сущность ее внутреннего мира была обнажена – ни полутеней, ни второго плана. И, точно находясь в нейтральной обстановке, я стал представлять себе, какое удовольствие можно получить от ее тела. Но воспротивился этому импульсу по профессиональной привычке. Еще и потому, что, привыкнув с Ирэн не придавать значения собственному удовольствию ради того, чтобы доставить удовольствие ей, я не решался совершить поступок, не подкрепленный чувством.
– Уже пора. Одевайтесь. Она живо соскочила на пол. Она была не очень крупной. Веселой и отлично сложенной.
Она подставила свою обнаженную руку солнечному лучу, пересекавшему комнату.
– Столько солнца, а все потеряно, как жаль! Нужно работать. А как хорошо было за городом.
– Ну, бывают еще воскресенья. Хотите, как-нибудь в воскресенье мы с вами поедем за город?
Она засмеялась. Подумала, что я шучу. Для нее я был только доктором, и ничем больше, кем-то вроде наемного рабочего, чьи инстинкты подавляют, платя гонорары. Ее деньги, очевидно, должны были не только оплачивать мои услуги, но и выхолащивать желания. Но что воображала себе эта девочка с широким выпуклым лбом и жалкими предрассудками? Поводя плечами и бедрами, она у меня на глазах надевала платье. Она, должно быть, говорила себе: «Врач не мужчина. Что вы! Он уже столько насмотрелся; ему от этого ни жарко ни холодно!»
Она ошибалась. Мне было жарко, когда она находилась тут, менее жарко, когда уходила. К вечеру я обычно замерзал. Дни становились длиннее; магазины в нашем квартале освещали свои витрины нехотя и слабо. Тогда, не строя никаких иллюзий относительно моих шансов покончить с одиночеством раз и навсегда, я подумал, что меня приободрил бы вид, на котором я обещал себе задержать взгляд; опершись на ладони, я смотрел, как Марина на краю кушетки поправляет свою тоненькую косичку.
Однажды воскресным утром – почти через две недели после отъезда Ирэн – я, собираясь нанести три-четыре визита особенно серьезным больным, не спеша шагал при свете восходящего солнца. Внезапно я почувствовал себя плохо, меня лихорадило. Я проглотил слюну. Горло воспалилось и болело.
Я наблюдал, как окружавший меня воскресный Отей, степенно, в туфлях на высоком каблуке, возвращается с мессы. Я представил себе послеполуденное время: свою спальню, приоткрытые окна, гул толпы, направляющейся к спортивным площадкам, и позднее возвращающейся со стадиона; неравномерный шум, внезапное затухание которого делает небо пустым, а город мертвым. Как я ложусь в постель, поддаюсь болезни, даю лихорадке овладеть мной. Нет, лучше сопротивляться. Я подумал о Марине.
Читать дальше