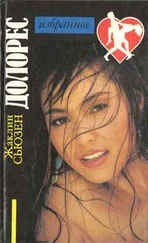Много лет тому назад в маленькой церквушке Коннектикута молились по Тору, но там не было ни священника, ни ладана, ни швейцарских стражей со скипетрами и лентами, ни «Реквиема» Моцарта, лишь скорбная стонущая тишина да мои беззвучные молитвы. Но все это в прошлом.
Тринадцать лет тому назад Тору, моему отцу, было всего сорок четыре. Я уже два года жила в Париже, когда Тор внезапно вызвал меня домой. Мне ужасно не хотелось уезжать. По крайней мере, до тех пор, пока я не поняла, что он умирает. А доходило до меня очень долго. Тор просто не мог умереть в сорок четыре! Златовласый Тор, молодой веселый Тор, самый смешной, самый живой из всех мужчин. Умирал он от рака, который можно было вылечить еще год назад. Непобедимый Тор, которого одолели боль и смерть. Я уехала домой и долгие месяцы сидела у его постели, месяцы мучений и страха, месяцы агонии и морфия. Потом он умер, и все остальное умерло вместе с ним.
И вот теперь я опять в Париже. У истоков первых дней, у самого начала. В холодной, пропахшей фимиамом церкви. Священник простер вперед руки, плакальщицы опустились на колени, и я оплакивала вместе с ними другую, давнюю смерть.
Вчера вечером в Лондоне я готовилась оставить своих детей на целых два дня. Позвонила подруге, которая согласилась приехать к нам, приглядеть за домом. Горничную отпустила гораздо позже обычного. По иронии судьбы, мужа моего тоже дома не оказалось: он уехал в Ирландию и собирался вернуться только через несколько дней. Я оставила ему телефон адвоката и отеля, в котором собиралась остановиться. Взяла с собой смену белья и испанскую шаль - для похорон. Легла я рано, приняв на ночь две таблетки секонала, и очнулась только в семь утра. Со стороны можно было подумать, что я абсолютно спокойна. И все же спокойствие это было каким-то неестественным, если не сказать - пугающим. Мои шаги по сверкающему полу аэропорта гулко и холодно отдавались в сердце. Я поймала взглядом свое отражение: высокая женщина в черном костюме, лицо бледное, словно мелом присыпанное, вид такой, словно впереди ее ждет долгое изнурительное путешествие, а не часовой перелет через Ла-Манш. Я с любопытством уставилась в зеркало и никак не могла поверить, что там - я сама.
Но в Ле- Бурже мое притворное спокойствие испарилось без следа. По дороге в город таксист свернул на рю де Фландр, и в животе у меня похолодело от страха. Я то закрывала глаза, то пялилась на сиденье, то изучала ручку своей черно-белой дорожной сумочки, лишь бы не смотреть на до боли знакомую рю де Фландр. Я отгородилась от Парижа, от людей, от их лиц, от их походки, от звука их голосов и визга их машин.
Оказавшись в церкви, окутанная торжественной скорбной музыкой, сочувственными взглядами престарелых леди, поддержкой внимательного мэтра Жансона, я снова почувствовала себя в безопасности. Гроб и священник поплыли перед глазами. Но не о тете Элис я плакала, не об этой милой доброй старушке - я оплакивала свой собственный воображаемый гроб, в который я уложила себя много лет назад и отправила в могилу вслед за отцом в Коннектикуте, а потом начала новую жизнь, которая не имела ничего общего с той, прежней. Я родилась в возрасте двадцати двух лет.
Месса подошла к концу. Мы с мэтром Жансоном побрели вслед за гробом на задний дворик церкви. Престарелые леди и их мужья пожимали мне руки. Какой странный ритуал. Я автоматически обменивалась рукопожатиями с этими незнакомыми людьми, принимая их соболезнования по поводу очередной смерти.
В машине, по пути на кладбище, мэтр Жансон поинтересовался, как долго я не была в Париже.
- Тринадцать лет, - ответила я.
И вот я снова здесь, и теперь все должно закончиться. Я заставлю себя разузнать правду. Я буду искать его и… себя? Нет. Не себя. Я найду себя в нем. В том, каким он был и каким стал. И узнаю. Я должна узнать.
И вдруг исчезло безмолвие всех прожитых лет, когда мне то и дело хотелось закричать: «Где ты, Милош? Что с тобой случилось?» Перед моим мысленным взором прошла вереница воспоминаний. Я вспомнила, как в первое время боялась сойти с ума, цепляясь за действительность, словно альпинист за веревку; заново пережила годы отчаяния, паники и холода - мне было холодно даже в Нью-Йорке жарким летом, потому что в душе я умерла и единственной моей заботой было не упасть. Теперь все это неожиданно потеряло смысл. Я наконец докопаюсь до правды.
Хотя страх и паника давным-давно отступили, что-то внутри меня умерло, атрофировалось после смерти Тора и исчезновения Милоша. Именно так - исчезновения. Шок от этих двух невосполнимых потерь вызвал довольно странное состояние моего разума, поначалу граничащее с умопомрачением, а затем перешедшее в глухую пустоту и отказ от принятия действительности. Так было, пока не появился Гевин. Здоровый, веселый Гевин, который однажды сказал мне в Центральном парке:
Читать дальше