Наконец он говорит как ни в чем не бывало:
— А что! Очень даже современно.
У него очень подвижное — будто без костей — лицо. Когда-то выпускали для детей такие поролоновые маски.
— Современно? — хмыкаю с сомнением. — Я бы не сказала! Ходил по театру, выпытывал все про меня, собирал сплетни. Всех насмешил, как клоун, и меня выставил в самом дурацком свете, а теперь претендуешь на роль современника, этакого героя-любовника?
— Ну и что? Не буду же я покупать кота в мешке.
— Кошку, — поправляю я. — И все-таки — покупать!
Мгновение-другое он обиженно раздувал щеки.
А я хотела уколоть побольней:
— Покупают игрушку… шкаф… машину вот такую покупают…
— С тобой невозможно разговаривать! — теперь раздраженно фыркал он (позволял себе!). — Между тем мне говорили, что ты очень контактная.
Я кивала в ответ:
— Контактная, но не со всеми.
Вдруг он вспыхнул и ударил по тормозам. Машина стала, как вкопанная. А я от неожиданности вздрогнула.
Кандидат выкрикивал мне в спину:
— А кому какое дело, что я выспрашиваю. Кому-то это смешно, а мне не смешно совсем!
— В первую очередь это неприятно мне, — отвечала я ему, обернувшись.
Он быстро нагнал меня и теперь улыбался во все окошко:
— Но с тобой-то мы, надеюсь, договоримся! Я слышал, ты разумный человек и с тобой всегда можно договориться. Так ведь, Люба? А до других нам дела нет. Других мы тут оставим: любоваться на следы протекторов нашего «мерседеса».
— Твоего, — поправила я. — И вообще… Не ходи за мной, не езди и больше никого не расспрашивай обо мне. Все это очень глупо и бессмысленно! Считай что я умерла для тебя. Нет меня больше! Понял?
Глаза его весело сверкнули. Он хохотнул, и щеки его вместе с подбородком при этом вздрогнули:
— Прекрасно!
— Значит, мы договорились?
— Ни в коем случае! Я вообще — о другом. Уж коли начались запреты, не исключено, что выгорит дельце. И пожалуй, достаточно на сегодня. Адью!
Он нажал на газ, машина взревела, рванулась, как некий свирепый зверь, и быстро скрылась за поворотом.
Если б я не была зла в тот момент, я бы непременно расплакалась от отчаяния. Я поняла: несмотря ни на что, он решил меня взять измором. Причем совершенно не стесняясь в средствах, даже не придавая средствам значения. Взять — и все! Взять, как вещь, которая понравилась на витрине. Может, еще и насчет цены поторговаться, дабы не переплатить. А потом — в упаковочку и в пользование. Мне же даже не у кого попросить помощи; нужно полагаться только на себя.
— Ну уж нет! — поклялась я себе. — Ты от меня быстро отчалишь!
Но он не отчаливал.
Каждый день присылал цветы, время от времени позванивал, изредка встречал у театра или возле общежития, а иногда просто прогуливался под окнами — с маленькой собачкой на поводке или с дорогой тростью — я думаю, он потихоньку приучал меня к своей безобразной фигуре; он был высок, но очень толст; поначалу я не могла смотреть на него без злости и презрения, но потом, действительно, как бы привыкла; человек ко всему привыкает. Очень навязчивый и очень толстый мужчина потихоньку переставал казаться мне очень навязчивым и очень толстым. Он чувствовал это и начинал укорачивать «поводок» — он стал приглашать меня в рестораны и на презентации. Понятно, что здесь мы должны были показываться в обществе вдвоем. Но я отказывалась.
«Когда же я впервые села к нему в машину?»
Ах, да! Это было в тот грустный день, когда меня вновь обошли квартирой…
Квартир выделили на театр три или четыре. Одна из них — однокомнатная. Петр Петрович обнадежил меня: он не видел более достойных претендентов, чем я, на эту маленькую квартирку. Но директор взял ее себе — всеми правдами и неправдами (ходили слухи, что даже не себе, а племяннице, но я никогда не верила слухам!).
Я забилась в приемной в темный уголок за фикусом и сидела там тихо, и жалела себя, жизнь свою неудалую вспоминала. Не плакала, нет. Крепилась.
Петр Петрович меня успокаивал:
— Очень трудные времена, Люба. Сами знаете, как сейчас с квартирами. Ну потерпите немного. Может, что и изменится. Вы же одна — можете и потерпеть…
Сам того не сознавая, он давил мне на больное место. Быть может, я потому и была одна, что к двадцати семи годам не имела жилья, не имела собственного очага, возле которого мог бы задержаться кто-нибудь достойный.
И тут дерзкая мысль явилась мне:
«Но разве я одна? А как же тот, что ошивается под окнами день и ночь? Который только и мечтает, что обо мне да как бы окружить меня всевозможными благами? Уж у него-то есть, наверное, квартира! Не домик Тыквы из спектакля «Чиполлино».
Читать дальше



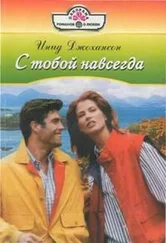



![Ника Иванова - Дарай. Я с тобой навсегда [СИ]](/books/386080/nika-ivanova-daraj-ya-s-toboj-navsegda-si-thumb.webp)



