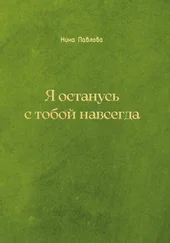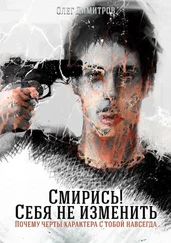Начальник выписывал мне новенькую трудовую книжку. Он делал это с большой важностью и ответственностью:
— Боже мой! С четвертого курса уйти. Вы, может, еще вернетесь? Или будете переводиться в какой-нибудь другой институт? С понижением курса — это возможно.
Я покачала головой. Наверное, сделала это решительно. Вопросов про институт больше не было.
Рука начальника замерла:
— Так и писать — Игумнова-Штерн?
— Пишите Игумнова.
— Разумно. Чем проще, тем лучше. Веление времени. А то как понапишут. Вот, например… вазо… вазоди… де… минуту! — он, громыхнув ключами, достал из сейфа какую-то коробочку, прочитал: — Вазодилятатор.
Я не поняла:
— Что вы имеете в виду?
— Да вот выписали лекарство. Никак не разберусь, — лицо начальника обрело выражение растерянности. — Уповаю на вашу помощь.
Я взяла коробочку:
— Курантил, коронарный вазодилятатор.
Начальник отдела кадров улыбнулся:
— С чем его едят?
В нескольких словах я объяснила ему, по какому принципу действует этот препарат. С тех пор с начальником отдела кадров мы стали друзьями. Он еще не раз обращался ко мне за консультацией, обходя медпункт.
Да и не только он… Во мне в театре многие видели врача и часто заговаривали со мной о медицине, о болезнях. Реагировали по-разному на этот зигзаг моей судьбы: кто-то с сожалением и участием, кто-то с тайным, а кто-то с плохо скрытым злорадством — вот, дескать, почти уж высшее образование у тебя, а сидишь в приемной кукла куклой; любая смазливая дуреха могла бы тут сидеть, много ума, образования не надо — улыбочка одна да жеманство. Недоброжелатели, которых оказалось немало, раздражали и огорчали меня. Ведь я никому ничего плохого не делала, со всеми была вежлива, корректна. Я была для недоброжелателей Любкой из приемной (для друзей — Любашей), и это при том, что нас с первого курса института преподаватели звали на «вы», именовали «докторами» и величали по имени-отчеству — готовили к высокому положению врачей в обществе. «Любка из приемной» или просто «Любка» резало мне слух. Я привыкла уже быть Любовью Николаевной.
А работа у меня, действительно, была не сложная, даже немножечко нудная: телефонные звонки, почта, пишущая машинка, всякая документация и, естественно, — традиционные кофе-чай…
Иногда в театре случались авралы — если машинисты сцены по каким-либо причинам не успевали подготовить спектакль. Тогда все, кто случался на тот момент в театре, вооружившись пилами, молотками, белилами, клеем и прочим, выходили на сцену (пару раз я даже видела самого директора с засученными рукавами!) и помогали рабочим устанавливать декорации. Авралы оживляли рутину будней. Лично мне авралы нравились. Например, однажды мы высыпали на сцену толпой доводить до ума «Сельскую честь» Масканьи (декорации имеются в виду), и меня поразил уютный старинный итальянский городок, выстроенный из фанеры на фуре. Так любопытно и приятно было по этому искусственному городку пройтись! Узкий переулочек с нарисованной брусчатой мостовой, черепичные (из папье-маше) оранжевые крыши… Было ощущение, что я попала в сказку. И из сказки не хотелось уходить. А раз не хотелось, так я и не уходила. Я взяла ведро водо-эмульсионного клея и в городке этом чудесном все привела в порядок. Хотя и перемазалась весьма. Кроме того, бывает полезно иногда сменить обстановку: на сцене среди машинистов порой попадаются интересные люди. Как-то я разговорилась с одним дядей интеллигентного вида, с бородкой-клинышком — он оказался доктором физико-математических наук. Ему не хватало денег на машину, и он пару месяцев подрабатывал в театре. А другой, про которого говорили «он порой бывает не в себе», оказался довольно известным поэтом. Подрабатывали на сцене и студенты, и учителя, и пенсионеры и другие.
Первое время, пока с привычкой не притупилось восприятие, мне в театре все было интересно. Каждое утро я входила в служебный подъезд, и реальный мир оставался у меня за спиной, а я погружалась в мир искусства — музыки, танца, хорового пения, актерской игры — мир таинственный, увлекательный, завораживающий. Мир искусственный и в то же время представляющийся более настоящим, чем мир собственно настоящий. Это внове мне было, девочке из провинции. И не удивительно! Где я еще могла так близко увидеть театр? Разумеется, не совсем уж я дикая приехала в Питер и явилась в Мариинку. Некоторые представления имела. Со школой, помнится, смотрела в Новосибирске «Лебединое озеро»; будучи студенткой, посетила разок театр (гастролирующий, ибо в Караганде своего театра оперы и балета нет). «Князь Игорь»… Да, «Князь Игорь». И как будто все. А вообще с театром (не только оперным) у меня связано много самых разных воспоминаний. Но самое первое и забавное — следующее…
Читать дальше
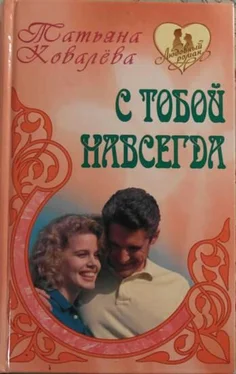


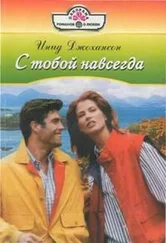
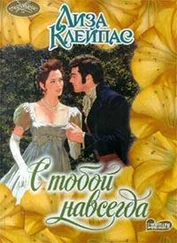


![Ника Иванова - Дарай. Я с тобой навсегда [СИ]](/books/386080/nika-ivanova-daraj-ya-s-toboj-navsegda-si-thumb.webp)