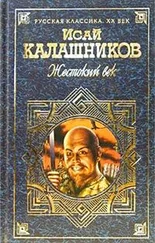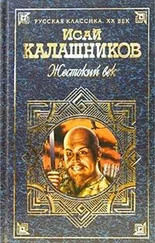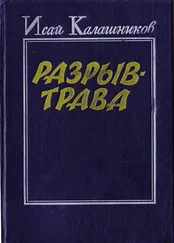— Сымай! Давай, давай, какие могут быть разговоры. А сам иди-ка в баньку. Она у нас во дворе. Жару много, старик?
— Хватит. Иди, парень.
Пока Артемка мылся в бане, Матрена починила и выстирала его рубашку, повесила сушить.
— Высохнет не скоро, придется тебе переночевать у нас. А завтра со стариком на работу пойдете.

1
Непривычно и радостно было Павлу Сидоровичу, возвращаясь поздно вечером из Совета, видеть в окнах своей избёнки свет, знать, что его ждет дочь. Дочь… Даже само слово, с тех пор как Нина здесь, звучит по-новому, вмещая в себя удивительно много.
На крылечке он очень тщательно вытер ноги, открыл дверь. В очаге ярко горели смолянки, рыжие языки пламени облизывали черные бока чугуна. Нина, отворачиваясь от огня, поправила щипцами дрова, отбросила пальцем прядь волос, упавшую на лоб, и он снова поразился, как много у Нины общего с покойной матерью. Тот же нос, маленький, слегка вздернутый, те же губы, готовые, кажется, в любой момент сложиться в улыбку, и улыбка та же: или светлая, застенчивая, или лукавая, простодушно-хитроватая, или откровенно-озорная. Только волосы… Саша их зачесывала назад и скручивала на затылке в тугой узел, а Нина заплетает в косы и укладывает короной вокруг головы. Когда дочка впервые переступила порог его избы, он даже испугался, показалось, что это пришла Саша, пришла, откуда никто не возвращается.
— Ну, дочка, угощай… — сказал он, усаживаясь за стол. И это было тоже непривычно — не топтаться у печки, готовя себе ужин, сидеть и ждать, когда она поставит на стол самовар, нарежет хлеба…
— Папа, почему здесь люди какие-то… — Нина запнулась, подбирая слово, — ну, какие-то не такие? Пошла я в лавку, а на меня со всех окон смотрят и ребятишки бегут за мной, в лицо заглядывают.
— Это потому, что ты у меня такая красивая, — пошутил он.
— Они какие-то простодушные… Да, папа? — немного смущенная его шуткой, спросила она. — Ты знаешь, у меня сердце в пятки уходило, когда собиралась сюда. И всю дорогу боялась. А встретила в Верхнеудинске Артемку, и перестала бояться. Он такой славный, папа. И все они такие же славные, наверно.
— Узнаешь в свое время, не спеши.
— Но мы же скоро уедем. Да?
— Скоро сказка сказывается, Нина…
Об отъезде ему говорить не хотелось. Сейчас он пахарь и сеятель на отведенной ему десятине. В жестокие холода он готовил семена и удобрял почву. Зерна брошены в землю, пробились первые всходы, со временем они окрепнут, пойдут в рост, и тогда он может ехать домой. Домой… Собственно, какой у него дом? Нина здесь, и дом здесь, и уже не сосет его тоска, как недавно.
— Ты бы мне рассказала, как жила без меня, — попросил он.
— Я же рассказывала. — Нина поставила на стол тарелки с кашей. — Просто скучно мне рассказывать, и нечего.
В общем-то, она говорила правду. Ее жизнь была небогата событиями. Росла у тети, Сашиной сестры, женщины доброй, но абсолютно далекой от всего, что можно отнести к политике, на всю жизнь напуганной смертью Саши в тюрьме. Окончила гимназию, потом поступила на курсы медсестер, поработала в госпитале, пока не скопила денег на дорогу. О революции, о партиях у нее были очень смутные представления, и она, кажется, не проявляла к этому особого интереса (сказывалось влияние тети), что не совсем нравилось ему.
— Ты как решилась ехать в такую даль? — спросил он. — Сама же говоришь: боялась.
— Знаешь, папа, я трусиха, каких мало. Пришла первый раз в госпиталь, увидела бинты в крови и чуть не упала в обморок. А потом ничего. И всегда у меня так. Я себя теперь знаю и страху не поддаюсь… И мне очень хотелось видеть тебя. Плохо жить без отца, без матери. Нет, я на тетю не обижаюсь, но все равно плохо. Во сне тебя часто видела, когда была маленькой. Ты брал меня на руки и подбрасывал высоко-высоко, а я смеялась. И после этого тосковала еще больше…
Кто-то хлопнул воротами, быстро взбежал на крыльцо, резко дернул двери. Это был Клим. Запыхавшись, он крикнул с порога:
— Тимошка горит!
И сразу же убежал. Павел Сидорович выскочил из-за стола, кое-как оделся. Нина испуганно смотрела на него. Он задержался у дверей, торопливо проговорил:
— Ты не беспокойся… — надо было сказать еще что-то, но он ничего не придумал, шагнул в холод ночи, застегивая на ходу пуговицы полушубка.
Полная луна освещала одну сторону улицы белым светом, другая расстилала на дорогу черные тени заборов и домов. Тимохин дом был на освещенной стороне, возле него толпились люди, пахло дымом и горелой шерстью. Горел не дом, а омшаник, приткнутый вплотную к сеновалу. Пожар почти загасили. Черная, обугленная стена, закиданная снегом, шипела и потрескивала, дым и пар клубами уходили в небо.
Читать дальше